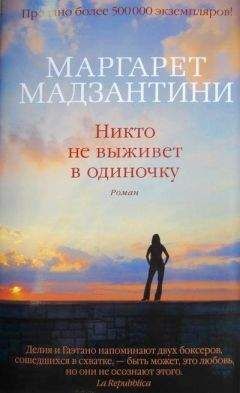Маргарет Мадзантини
Рожденный дважды
Посвящается Серджо
и детям
О человеческая нежность,
Где ты?
Быть может,
Только в книгах?
Изет Сарайлич«Путь к надежде» — выплыло из множества слов, мелькнувших за день. Эти я прочла в аптеке, на прозрачном ящике с прорезью для денег и наклеенной скотчем фотографией ребенка — одного из тех детей, которых необходимо отвезти далеко, чтобы сделать там сложную операцию: вот именно, что «путь к надежде». Ворочаюсь на подушке, тяжело вздыхаю, смотрю на Джулиано, на его неподвижное, тяжелое тело. Он спит, как обычно, на спине, голый до пояса. Время от времени слегка всхрапывает, как смирная лошадка, отгоняющая мошкару.
Надежда… я думаю об этом слове, в темноте обретающем форму. У нее, у надежды, — женское лицо. Мое лицо, немного растерянное, — ведь я привыкла к невзгодам, но, кажется, достойно выдерживаю удары судьбы. Лицо постаревшей девочки, застывшее во времени, а все из-за моей верности и тайного страха.
Я выхожу на балкон, вижу привычную картину: дом напротив, сомкнутые ставни, темная вывеска бара. Тишина ночного города, ветер развеивает пыль отдаленных звуков. Рим спит. Спят его радости и беды. Спят окраины. Спит римский папа, у кровати стоят его красные туфли.
Телефон звонит ни свет ни заря. Просыпаюсь от громкого звука; спотыкаясь, бреду по коридору. Стараюсь говорить громко, не хочу казаться сонной:
— Кто это?
В трубке шелест, будто в ветвях запутался ветер.
— Могу я поговорить с Джеммой?
Правильный итальянский язык, но слишком отчетливое произношение.
— Это я.
— Джемма? Это Джемма?
— Да.
— Джемма…
Повторяет мое имя и смеется. Внезапно я узнаю этот хриплый отрывистый смех…
— Гойко…
Пауза.
— Да, твой Гойко.
Сколько лет пролежала в земле эта бомба… Бесконечный вакуум вдруг взрывается осколками воспоминаний. Его лицо, запах, те далекие годы…
— Мой Гойко… — бормочу я.
— Конечно, кто же еще? Три месяца пытаюсь найти тебя через посольство.
Как странно, я вспоминала о нем недавно, просто так, потому что навстречу шел парень, случайный прохожий, который был на него чуть-чуть похож.
Обычный разговор: «Как дела? Чем занимаешься? Жил несколько лет в Париже, потом вернулся домой…»
— Мы готовим выставку в память об осаде… Там будут фотографии Диего.
Холодок от пола поднимается по ногам, останавливается в животе.
— Хороший повод.
Он смеется — это его смех, в нем нет настоящего веселья, скорее, преодоление легкой неизменной грусти.
— Приезжай.
— Я подумаю…
— Не нужно думать, приезжай, и все.
— Зачем?
— Затем что жизнь проходит и мы вместе с ней. Помнишь?
— Как не помнить…
— И жизнь смеется над нами, как беззубая старая шлюха…
Стихи Гойко… жизнь — как длинная баллада. Вспоминаю его привычку трогать нос, читая стихи, мять его, как воск. Стихи он записывал на спичечных коробках, на руках. Я стою босиком, в одних трусах. Гойко жив, да, он жив. Я спрашиваю себя, почему же я не искала его все эти годы? Почему происходит так, что мы забываем прекрасных людей, но сходимся с людьми случайными, с теми, кто нам неинтересен, не приносит нам ничего хорошего, но просто попадается на пути, развращает душу обманом, превращает в кроликов?
— Ладно, приеду.
Ссохшаяся грязь жизни развеивается пылью, и ветер несет ее ко мне. Гойко ликует, кричит от радости.
Ветер дул, когда я уезжала из Сараева. Ледяные порывы ветра поднимали пыль, кружили ее по дорогам, засыпали прошлое. Пыль покрывала минареты, площади, мертвых на рынке, погребенных под овощами, разбитыми прилавками, с которых некогда торговали разными безделушками.
Спрашиваю Гойко, почему он стал искать меня только сейчас, после стольких лет, неужели соскучился?
— Я давно по тебе скучаю.
Голос пропадает, слышится вздох. Снова шум ветра, дыхание дали. Мне вдруг становится страшно, что разговор прервется и вновь настанет молчание, длившееся долгие годы, — молчание, которое теперь мне кажется невыносимым.
Быстро спрашиваю его телефон. Гойко диктует номер мобильного. Под рукой оказался клочок бумаги, авторучка не пишет. Надо бы поискать другую, но боюсь, что прервется связь, шум в трубке усиливается. Я живо представляю себе, как телефонный провод рвется и падает на землю, искры летят во все стороны… Сколько таких проводов, висящих в небытии, я видела в том городе, отрезанном от всего мира! Цепляю прошлое, царапая на бумаге телефонный номер Гойко, боюсь снова потерять его.
— Перезвоню, когда узнаю про рейс.
Иду к Пьетро, перебираю его авторучки, обвожу выдавленный на белом листке номер. Пьетро спит, из-под простыни торчат длинные ноги. Как обычно, глядя на спящего сына, я думаю, что кровать ему мала — пора покупать новую. Рядом с тапками валяется гитара, машинально поднимаю ее. Пьетро будет злиться, не захочет ехать, придется повоевать, чтобы убедить его.
Принимаю душ, иду на кухню. Джулиано уже сварил кофе.
— Кто звонил?
Отвечаю не сразу, отрешенно смотрю в одну точку. Пока я стояла под душем, моя кожа казалась мне упругой, как в молодости, когда я быстро мылась и выходила из дому с мокрыми волосами. Говорю, что звонил Гойко и что я хочу поехать в Сараево.
— Вот так, сразу?
Кажется, он не удивлен.
— Ты Пьетро сказала?
— Он спит.
— Так разбуди его.
На лице Джулиано утренняя щетина, спутанные волосы свисают на лоб, отчего еще больше видна лысина на макушке. Днем он всегда аккуратен — обитатель городских джунглей, привыкший к строгости казарм и тишине архивов. Этот беспорядок вижу только я, и мне кажется, в этом есть нечто сокровенное, доверительное… ощущается аромат нашей молодости, когда мы сидели на кровати — голые, растрепанные — и смотрели друг на друга. Мы женаты давно — я встретила Джулиано шестнадцать лет назад на военном аэродроме. Когда я повторяю, что он спас меня, Джулиано мотает головой, краснеет и отвечает, что это неправда. «Это вы, ты и Пьетро, спасли меня», — говорит он.
Джулиано — сладкоежка; пользуясь тем, что мои мысли далеко, он уминает очередной кусок кекса.
— Потом не жалуйся, что у тебя вырос живот.
— Это ты жалуешься, а я с собой в ладу.
Все верно, он с собой в ладу, поэтому всегда такой добродушный. Встает, кладет мне руку на плечо: