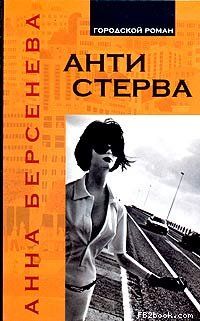«Надо — значит, сделай, — говорила ей в детстве мама. — Не будешь решительная — будешь несчастная».
Мама в самом деле была человеком простых и решительных действий. Когда-то Лола даже сердилась на нее за это качество: ей казалось, что жизнь достойна более тонкого подхода. Но теперь она собиралась сделать все именно так — решительно, раз и навсегда.
Она хотела избавиться от всего, что произошло этой ночью, потому что понимала, что это обман — может быть, не зрения или слуха, но обман состояния, обман самоощущения. Она даже вспомнила, как это называется по-французски — трамбле, изменчивое впечатление. Во Франции это было утонченное и очень модное направление жизни: маскировать все вокруг под что-нибудь другое. Готовить курицу так, чтобы казалось, будто ешь грибы. Мужчинам преображаться на театральной сцене в женщин и наоборот. В дорогом парижском ресторане, где Лола была с Кобольдом, на столике лежала старинная перчатка — с потертостями на швах, с зеленоватыми плесневелыми пятнышками. А когда она взяла перчатку в руки, оказалось, что это серебряная пепельница, на которой стоит клеймо известного дизайнера…
И, конечно, почувствовать то, что она почувствовала сегодня ночью к совершенно чужому человеку, — было тем же самым изменчивым впечатлением, которое хорошо только где-нибудь… в театре. А в жизни все должно оставаться таким, какое есть на самом деле.
И это значит, что ее, Лолы, в жизни Ивана Леонидовича Шевардина быть не должно.
Василий заболел очень невовремя.
Конечно, другому человеку любая болезнь показалась бы несвоевременной, но он уже привык к тому, что приступ может начаться в любую минуту, а поэтому мог говорить себе: лучше бы не сейчас, хотя бы через неделю.
Нынешний приступ случился как раз накануне дочкиного четырнадцатилетия — еще более некстати, чем когда-то перед летними экспедициями. Тогда из-за этого ломались планы не только Ермолова, но и других людей. Теперь же Василию было жаль, что вместо подготовки ко дню рождения Лола то и дело заглядывает в спальню и спрашивает, как он себя чувствует и не надо ли ему чего-нибудь. В Оперном театре только что начался сезон, и Манзура не смогла уйти в отпуск или хотя бы взять отгулы, как она делала всегда, когда он болел. Поэтому Лола являлась из школы раньше, чем обычно — Василий догадывался, что она сбегает с уроков, — и не отходила от него ни на шаг.
— Да ничего мне не нужно, маленькая, — говорил он, когда она в очередной раз предлагала ему бульон или чай. — Я неплохо себя чувствую. Просто лучше отлежаться, тогда быстрее пройдет. Не волнуйся, не в первый же раз.
Конечно, девочка видела его приступы не впервые и вообще-то не должна была пугаться всего этого: его внезапной слабости, и невозможности подняться с кровати, и уколов, и лекарств… Она и не пугалась — она просто переставала жить всем, чем жила, когда он был здоров, и полностью переносила свою душу на его болезнь. А это было для Василия мучительно, потому что он не хотел тревожить ее душу своими унылыми проблемами. Она была — счастье, негаданный, поздний, драгоценный подарок судьбы, он готов был сделать все, чтобы уберечь ее от ударов, которые могла приготовить та же судьба, которая так неожиданно ее подарила. И понимал, что не многое способен для этого сделать из-за проклятого сердца, которое не позволяло ему рассчитывать на свои силы.
Пока не родилась Лола, болезнь не слишком расстраивала его. Конечно, сердила беспомощность во время приступов, но Манзура вела себя в это время так, как будто ничего естественнее, чем беспомощность мужа, и быть не может. Василий знал, что она не притворяется: способность его жены принимать жизнь такою, как есть, без сомнений и сетований, была абсолютно органичной. И она с ее глубокой, просто осязательной догадливостью наверняка знала, как мало он дорожит жизнью.
«Хороший летчик-испытатель из меня получился бы, — с усмешкой думал он о себе — отвлеченно думал, как о постороннем человеке. — Да бодливой корове…»
Конечно, он успешно выполнял бы работу, для которой требовалось бесстрашие — не потому, что был как-то особенно бесстрашен, а лишь потому, что не дорожил жизнью. И, возможно, по этой же причине жизнь не дала ему сил не только для опасной, но и для любой сколько-нибудь напряженной работы.. . Геология требовала крепкого здоровья, и, хотя его уважали коллеги, Василий понимал, что серьезных успехов он в своей профессии не добьется. Бесконечные «невозможно», «не получится», «с вашим заболеванием» стояли на его пути как бастионы. Сначала он пытался их штурмовать — ездил в горы, как все, жил в палатке, тоже как все, плавал в горных речках, которые особенно любил за их стремительный, обжигающий холод. Но после того, как несколько раз ему пришлось прерывать работу в экспедиции и уезжать в Душанбе — собственно, он не уезжал, а его увозили на «Скорой», — Василий понял, что незачем ставить в глупое положение товарищей по работе. Не просят уйти на инвалидность, спасибо и на том. А требовать, чтобы они заботились о человеке, который упрямо не желает рассчитывать свои силы, — это уже слишком.
Из-за болезни его работа — рутинная работа в республиканском министерстве геологии — была такой же блеклой, как и вся его жизнь вообще, и он привык не мучить себя осознанием этого. Единственной радостью постепенно стало чтение, и Василий считал, что этого достаточно. В конце концов, прочитал же он у Чехова: так бывает, что люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья; должно быть, это так нужно.
И так это было до тех пор, пока не родилась дочка.
Когда Манзура сказала, что беременна, Василий утратил дар речи — впрямую утратил, не фигурально.
— Ты что-то путаешь, — выговорил он, когда прошло первое остолбенение. — Тебе ведь… Нам ведь уже много лет.
— Я не путаю, Вася. Сорок семь лет мне, я знаю. Конечно, таджички и позже рожают, но чтобы в первый раз… А все-таки это правда.
Ему показалось, она боится громко говорить, чтобы не повредить той неожиданной жизни, которую чувствует в себе. И тогда он понял, что Манзура не ошибается.
До самого рождения ребенка Василий не знал, как он относится к этому, все приближающемуся, событию. В молодости у него было отчетливое чувство, что детей иметь он не хочет. Да он вообще-то и в молодости не размышлял на эту тему, потому что его мысли о детях расстроили бы Манзуру, которая всегда каким-то загадочным образом знала, о чем он думает и как себя чувствует. Ну, а в пятьдесят четыре года тем более странно было об этом думать. Он и не думал — до самых родов не думал, и с недоуменной опаской смотрел на растущий живот жены. Впрочем, живот у нее был небольшой, сзади даже незаметно было, что она беременна. Фигура у нее с юности была — как стебель, это не менялось с годами, и походка оставалась гибкой, как будто она несла на голове высокий кувшин с водой, хотя Василий никогда не видел ее за таким занятием. К тому же она на редкость легко переносила беременность. Даже в больницу ни разу не легла, хотя Василий, напуганный врачами, которые рассказывали ему всяческие ужасы про пожилых родильниц, уговаривал ее это сделать. В общем, девять месяцев прошли для него незаметно и необременительно.