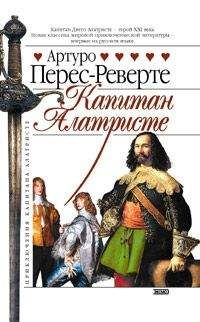Ознакомительная версия.
— Разумеется, — просто отвечает он.
В его тоне нет ничего притворного или деланого. И сегодня ему не хочется рядиться в доспехи героя. С той минуты, как он принял решение и нашел — или думает, что нашел, — способ его осуществить, им безраздельно владеет полное спокойствие. Он вверился судьбе. В душе его царит мир, а риск и страх совершить ошибку или потерпеть неудачу — все это бесследно растворилось в напряженном поле неминуемого. И Меча Инсунса, и Хорхе Келлер, и заветная книжка Михаила Соколова оттеснены сейчас на периферию сознания. В счет идет лишь тот вызов, который Макс Коста — или тот, кем он был он некогда, — как перчатку, бросает в постаревшее лицо этого седоватого господина, время от времени отражающееся в зеркале.
Меча продолжает внимательно разглядывать его. И в этом взгляде Максу чудится нечто новое. Или то, что еще недавно казалось ему невозможным.
— Партия начнется в шесть, — говорит она. — У тебя — два часа. Если повезет, то и больше.
— А не повезет — меньше?
— Может быть, и так.
— Твой сын знает?
— Нет.
— А Карапетян?
— Тоже нет.
— А что Ирина?
— Они с ней приготовили дебют, но Хорхе не станет его играть — пусть русские думают, что в последнюю минуту он изменил план.
— Подозрений не вызовет?
— Не должно.
Меча перебирает в пальцах трос с таким видом, словно ситуация вдруг предстала ей в новом, неожиданном свете. Она явно встревожена.
— Послушай, Макс… То, что ты говорил раньше, соответствует действительности… Партия и в самом деле может окончиться раньше, чем мы предполагаем. Может возникнуть патовая ситуация… вечный шах… И Соколов со своими людьми, вернувшись, может застать тебя там.
— Понимаю.
— Если увидишь, что дело осложняется, — говорит она, слегка поколебавшись, — бросай. И выбирайся оттуда как можно скорей.
Макс смотрит на нее благодарно. Ему приятно это слышать. И на этот раз его дух старого гаера поддается искушению изобразить на лице приличествующую случаю стоическую улыбку.
— Буду уповать, что партия затянется, — отвечает он. — А потом, post mortem, как у вас говорят, будет еще разбор.
Меча переводит взгляд на сумку с инструментами — там полдюжины полезных орудий труда, включая алмазный резец.
— Зачем ты это делаешь, Макс?
— Это мой сын, — отвечает он, не задумываясь. — Ты мне так сказала.
— Неправда. Тебе совершенно безразлично, твой он сын или нет.
— Может быть, я перед тобой в долгу…
— В долгу?.. Ты?
— Ну, значит, потому, что я любил тебя.
— В Ницце?
— Везде. Всегда.
— Странная у тебя манера любить… Была и есть.
Меча присаживается на кровать, где разложено снаряжение. Максу вдруг хочется снова объяснить ей то, что она и так прекрасно знает. И пусть ненадолго дать волю застарелой злобе.
— Ты ведь никогда не спрашивала себя, как видят мир те, у кого нет денег, правда? Как смотрят они на мир, просыпаясь по утрам?
Она удивленно глядит на него. Макс говорит без горечи, с холодной убежденностью. Как о чем-то несомненном.
— У тебя никогда не возникало искушения, — продолжает он, — объявить личную войну тем, кто спит спокойно и не тревожится о хлебе насущном. Тем, кто приближается к тебе, когда ты им нужен, возносят тебя, когда им этого хочется, но все же не позволяют тебе высоко держать голову.
Подойдя к окну, он показывает на пейзаж Сорренто и на роскошные виллы, ступенями поднимающиеся по склону в пышной зелени Капо.
— А вот у меня возникало, — продолжает он. — И было время, когда мне казалось, что я способен победить в этой войне. И больше никогда не чувствовать себя посмешищем на этом нелепом празднике жизни… Прикасаться к тонкой коже сидений в роскошных автомобилях, пить шампанское из хрустальных бокалов, ласкать красивых женщин… Обладать всем тем, что у тебя и обоих твоих мужей было изначально, благодаря простому и глупому везению.
Он на миг замолкает, чтобы снова взглянуть на нее. С этой точки, в этом свете она кажется почти такой же красивой, как прежде.
— И потому для меня никогда не имело ни малейшего значения, люблю я тебя или нет.
— А для меня имело.
— Ты могла позволить себе такую роскошь. И ее тоже… Меня занимало другое. Любовь не была делом первостепенным.
— А сейчас?
Он подходит ближе, всем своим видом демонстрируя покорность судьбе.
— Я уже сказал тебе об этом два дня назад. Я сел в лужу. Сейчас мне шестьдесят четыре года, я устал. Мне страшно.
— Понимаю… Да, разумеется. Ты делаешь это ради себя самого. Это и привело тебя сюда, в этот отель. Дело не во мне и не в моей просьбе. Причина — не я.
Макс садится рядом с ней на край кровати.
— Да нет, — возражает он. — В тебе. Может быть, не впрямую… В том, какой ты была и какими мы стали… Ты и я.
Меча смотрит на него почти нежно:
— Как ты прожил эти годы?
— После краха? Медленно катился вниз, пока не оказался там, где ты меня видишь. Сам себе напоминал разбитое войско, которое отступает с боями, а меж тем тает на глазах.
На какой-то миг Максу по давней привычке хочется сопроводить эти слова героической полуулыбкой, но он тотчас подавляет порыв. Ни к чему. С другой стороны, все, что он сказал, — правда. И он знает, что она это знает.
— Сразу после войны для меня настало золотое время. Началось восстановление, открылись новые возможности, пошли крупные дела… Так мне показалось. На самом деле на сцену вышли совсем другие люди. Другой класс. Другой вид мерзавцев. Они были не лучше прежних, но грубее и проще. И эта грубая простота вдруг оказалась весьма прибыльна… Мне трудно было приспособиться к этим обстоятельствам, я совершил несколько промахов. Доверился тем, кому доверять не следовало…
— Тебя посадили?
— Да, но дело не в том… Начал рушиться мой мир. Точней сказать, он рассыпался, стоило лишь до него дотронуться. А я это не сразу понял.
Он еще немного рассказывает, сидя очень близко к внимательно слушающей женщине. Десять-пятнадцать лет жизни уложены в несколько слов беспристрастного и сжатого отчета. Коммунистические режимы, установившиеся в Центральной Европе и на Балканах, добавляет он, покончили со старыми схемами, так что снова пришлось искать счастья в Испании и Южной Америке. Впустую, впрочем. Другую попытку он предпринял в Стамбуле, где стал партнером некоего владельца баров, кафе и кабаре, — из этого тоже ничего хорошего не вышло. Оттуда его на какое-то время занесло в Рим, и там он служил элегантной приманкой для американских туристок и иностранных актрис третьего разбора — водил их к «Стреге» и «Дони» на виа Венето, в ресторан «Фортунатто» неподалеку от Пантеона, к «Ругантино» на Трастевере или сопровождал в походах за покупками, получая от владельцев соответствующую мзду.
Ознакомительная версия.