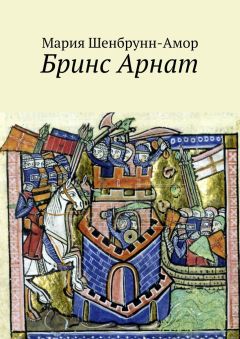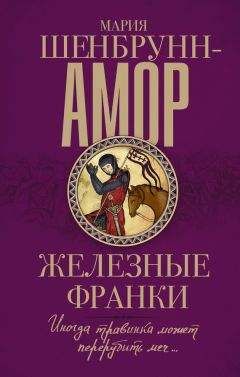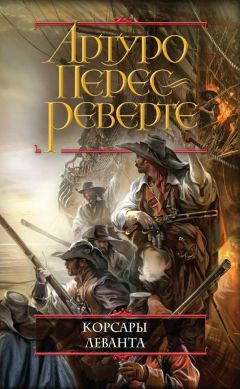Ознакомительная версия.
Саладин любил красивые жесты, даже христиан сумел убедить, что галантен и полон достоинств. Вот и сейчас предложение питья означало, что Лузиньяну оставлена жизнь. Ги вцепился в чашу и шумно глотал сладкий, как сама жизнь, шербет. Саладин метнул быстрый взгляд на Шатильона – унизится ли Бринс Арнат, взмолится ли о воде? Да лучше Рено сам себе жилу прокусит и из нее напьется, чем доставит Айюбиду такое торжество. Бринс Арнат давно уже не головорез, готовый ради прощения валяться в грязи Мамистры. Но видеть, как хлебает Ги, как течет вода по его щетинистым, грязным щекам, было тяжко. Рено попытался сглотнуть, да гортань была суше Синайской пустыни. Внезапно Лузиньян перестал лакать и протянул Рено кубок. Вот ведь Ги! Трус и болван, а, оказывается, заботливее святого Мартина, разделившего плащ с нищим!
У Рейнальда в глазах потемнело, так его тянуло к чаше, от запаха питья охватила горячка, а в животе поднялась ужасная резь. Саладин пристально следил за ним. И Шатильон внезапно понял, почему нехристь проявил такую любезность к Лузиньяну: чтобы досадить Бринсу Арнату, чтобы помучить заклятого врага. Рено хотел пить больше, чем жить, но взять верх над Айюбидом хотел еще больше. Пусть тот сам предложит. Никто не скажет, что Волк Керака унизился или показал свою слабость. И он отвел руку Лузиньяна. Саладин этого явно не ожидал, помрачнел, сурово бросил:
– Пей, потому что ты больше никогда уже не будешь пить.
Так же безошибочно, как чуял запах шербета, Рено почуял, что Саладин не убивает его лишь для того, чтобы насладиться его унижением. Победить напоследок своей щедростью и благородством того, кто одиннадцать лет был настолько нестерпимым гвоздем в седле, что магометане прозвали его Дьяволом, того, кого он дважды поклялся собственноручно обезглавить. Пить хотелось безумно. Рено дышал часто, как загнанный пес. За студеную воду он отдал бы в этот момент всю будущую вечную жизнь. Но в этой у него осталось только одно – не сдаться, не позволить Айюбиду восторжествовать, в последний раз самому одолеть проклятую некрещёную собаку. Казалось, это клейкая, густая ненависть к Саладину залепила гортань. Ничем не будет Рено обязан этому Льву Аллаха, ничем, даже жизнью. Почувствовал, как пульсирует на виске жила, с трудом разомкнул спекшиеся губы, глядя прямо в проклятые эбонитовые глаза, заявил с торжеством:
– Если Господу будет угодно, я никогда не буду ни пить, ни есть ничего твоего.
Саладин смешался, нагнулся вперед, спросил с угрозой:
– Бринс Арнат, по твоему закону, если бы ты держал меня у себя в плену, как я сейчас держу тебя, как бы ты поступил со мной?
Все-таки надеялся, что Рено будет молить его. Зачем? Смерть прекратит жажду быстрее шербета, а умирать неизбежно. Шестьдесят два года – немалый срок для рыцаря в Утремере. Многие трусы прожили куда меньше. Рено только бровь заломил и ответил напоследок искренне и от всего сердца:
– С Божьей помощью я бы отрубил тебе голову.
Когда толмач перевел, красивое лицо Саладина перекосилось от ярости:
– Свинья! Ты мой пленник, а смеешь так высокомерно отвечать мне!
Вскочил, рука его потянулась к перевязи, на которой он по примеру Магомета носил меч. Рено напрягся, стиснул зубы. Схватка их всегда была не на живот, а на смерть, и все, что мог в этой жизни, Волк Керака уже сделал. Сейчас будет удар. Это будет коротко и быстро.
Но султан овладел собой, топнул ногой и выбежал из шатра – невысокий, худой, похожий на птицу в своих ярких, развевающихся одеждах и в большой чалме. Охрана и свита поспешили следом. Послышался топот копыт.
Вот и победил Бринс Арнат последний раз.
Закатное солнце просвечивало сквозь желтый шелк, тень от каллиграфической арабской вязи на ткани ложилась на пленников, и золотой воздух залил их, затопил, поймал, как мух в гигантском янтаре. Лузиньян и Ридфор избегали взгляда Шатильона, видно, боялись, что его вина падет и на них. Он все же пересилил себя, попросил:
– Мессиры, поведайте о моей гибели честно и без утайки. Пусть люди знают, что Бринс Арнат не страшился, веру Мухаммеда не принимал и не молил о пощаде.
Понурившиеся бароны молчали, словно он их в трусости упрекнул. Даже Онфруа смутился, как будто отродясь не слыхал об Александре Македонском и Ахилле. Они еще надеялись жить, и правильно: кто-то должен и дальше спасать Землю Обетованную. А Шатильон, Шатильон уже думал только о добром своем имени, о славе, которая ждет каждого франка, чье железное сердце не тронула ржа трусости и себялюбия.
Ответил Эрнуль, оруженосец Балиана Ибелина:
– Волк Керака, если останусь жив, поведаю. Клянусь вам в том Отцом, Сыном и Святым Духом.
Рено закрыл глаза. Отныне он за порогом всех побед и поражений. Бредет себе по обжигающему ноги охровому песку между вздымающимися уступами серо-дымчатых скал, среди бархатных складок дюн, приближается неторопливо к слепящей глаза поверхности Содомского моря, к белым соляным льдинам на водной глади.
Вот и ужаснул Бринс Арнат весь Восток и прославился на весь Запад.
* * *
Для чего Аллах дозволяет своему рабу, родившемуся еще до того, как укрыватели истины захватили Аль-Кудс, дожить до девяноста и двух годов, если не для того, чтобы явить ему милость воочию узреть победу сынов рая?
Немощное тело Усамы ибн Мункыза давно одряхлело, голова поседела, но душа по-прежнему была молода и ненасытна. И дабы насладиться торжеством Аллаха, неугомонный эмир последовал за победоносной армией правоверных.
Его возлюбленный сын Мурхаф ибн Мункыз, сверх меры осыпанный милостями султана, повелел, чтобы рабы несли отца в покойном кресле и заботились обо всех нуждах почтенного старца. Стариковская плоть, она – как капризная женщина, доставляет тем больше забот, чем меньше дарит радостей. И поскольку самой неотложной и насущной нуждой шейзарского эмира было помедлить в этом мире до освобождения Аль-Кудса, Усама наблюдал за боем у Хаттинских рогов из безопасного отдаления.
Но теперь, когда триумфатор объезжал поле битвы, Усама заставлял нубийских невольников поспевать за конем султана, хоть остолопы и спотыкались на камнях и трупах, а кресло тряслось и кренилось. Салах ад-Дина сопровождал его сиятельный сын – Аль-Малик аль-Афдал, победитель тамплиеров в битве при Крессоне, чуть сзади следовал любимый племянник султана – отважный Таки ад-Дин, захвативший сегодня обожествляемый франджами деревянный крест, вдогон тянулись визири, эмиры и личная стража Салах ад-Дина в желтых кафтанах.
Имад ад-Дин аль-Исфахани, секретарь султана, прозванный аль-Катибом, с гордостью рассказывал Усаме, как перед боем его господин носился от правого фланга аскара до левого, проводил смотр всем отрядам, расставлял воинов на самых выгодных позициях. Аль-Малик аль-Назир умел воодушевлять войска: «Какая самая благородная смерть?» – спрашивал он муджахидов, а те отвечали в упоении: «Смерть на пути Аллаха!» Тогда благочестивый военачальник напоминал, что от блаженств рая их отделяют лишь мечи гяуров. А в разгар сражения ободрял правоверных криком: «Победа над врагами Аллаха!» – и клич подхватывали тысячи глоток.
Ознакомительная версия.