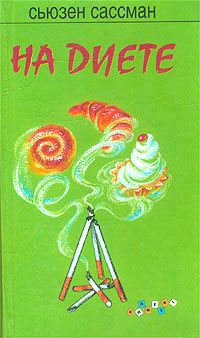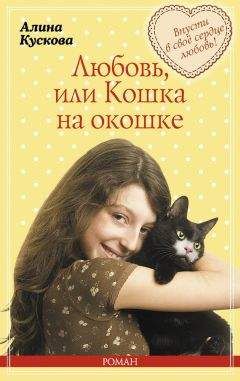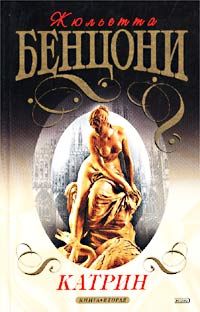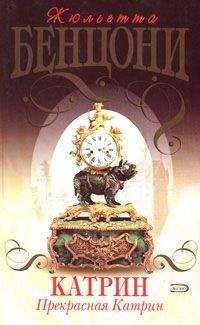— Нет, у сестры совсем неплохо. Обстановка не самая изысканная, но ничего… Но уж лучше тут, чем дома с Кармен, которая только и думает, как бы взобраться на крест и вбить в себя гвозди, чтобы меня спасти! Видеть ее больше не могу. Такая липучая, ну такая липучая…
Жозефина с яростью швырнула щепотку чая в ситечко и плеснула воды из чайника, пролив половину мимо.
Зоэ попросила у нее разрешения пойти в кино: я вернусь к ужину, обещаю, я сделала все уроки на понедельник, вторник и среду. «А когда у тебя найдется время объяснить, за что ты на меня дулась, за что ненавидела меня все это время?» — подумала Жозефина. Зоэ шесть раз переодевалась, врываясь в комнату матери с вопросами: «Так нормально? Не толстит? Попа не большая?», «Ой, а так, по-моему, ляжки очень жирные, нет?», «Мам, а это лучше с сапожками или с балетками?», «А волосы распустить или собрать?»… Она вбегала и выбегала, начиная спрашивать уже в коридоре, вертелась перед матерью, возвращалась в новом наряде, с новым вопросом, и Жозефине никак не удавалось сосредоточиться на работе. История гонений на полосатую одежду. Прекрасный сюжет для главы о цветовой символике.
В конце лета 1250 года монахи из ордена кармелитов, братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель, прибыли в Париж в коричневых рясах, а поверх них — в плащах в коричнево-белую или черно-белую полоску. Скандал! Полоски в Средние века пользовались дурной славой. Они были атрибутом злодеев, вроде Каина и Иуды, предателей, преступников, бастардов. И потому, когда бедные братья ходили по Парижу, все над ними издевались. Их называли «братством решетки», били, оскорбляли, уподобляли дьяволу. Им приставляли к головам рога, при встрече с ними закрывали лица. Они поселились рядом с монастырем бегинок, искали убежища у сестер, но те не открыли им ворота.
Гонения продолжались тридцать семь лет. В 1287 году, в День святой Марии Магдалины, они отреклись от «решетки» и стали носить белую мантию.
— Надень белую маечку, — посоветовала Жозефина, разрываясь между тринадцатым и двадцать первым веком. — Белый оживляет цвет лица и сочетается с чем угодно.
— А-а… — протянула Зоэ с сомнением в голосе.
И ускакала мерить новый наряд.
Дю Геклен дремал, свернувшись у ног Жозефины. Она закрыла книги, потерла крылья носа — явный признак усталости — и решила, что ей не помешает глоток свежего воздуха. Она пропустила утреннюю пробежку. Ирис все время жаловалась, приставала к ней с одними и теми же вопросами о своем неясном будущем.
Она встала, накинула куртку и, проходя через гостиную, жестом показала Ирис, что уходит. Та кивнула, на миг оторвавшись от телефона, и стала болтать дальше.
Жозефина хлопнула дверью и бегом скатилась по лестнице.
Черный гнев поднимался в ней клубами угольной пыли. Она задыхалась. Что мне теперь, запираться у себя в комнате, чтобы обрести хоть капельку покоя? И на цыпочках ходить на кухню за чашкой чая, чтобы не помешать ее телефонному трепу? Грозовые тучи гнева заволокли ее душу. Ирис и пальцем не пошевелила, чтобы помочь мне приготовить завтрак или убрать со стола. Только попросила поджарить ей тосты — будь добра, подрумянь, не сожги, я не люблю угольки — и добавила: у вас случайно нет меда из «Эдиара», настоящего меда?
Она пересекла бульвар, дошла до леса. Стоп, заметила она на ходу, что-то я не видела плаката с Лукой. Как странно теперь произносить «Лука», а не «Витторио». Наверное, проскочила мимо и не заметила… Она ускорила шаг, пнула старый теннисный мячик. Дю Геклен удивленно взглянул на нее. Чтобы успокоиться, она вновь вернулась мыслями к своей работе о роли цвета. О символике цвета. Это будет первая глава, введение к основной части. Чтобы заманить ворчливого профессора, заинтересовать его. Чтобы он легче заглотил остальные пять тысяч страниц. Синий в Средние века был воплощением печали. Это мог быть цвет траура. Матери, потеряв ребенка, в течение полутора лет носили cerula vestis, синее платье. В иконографии Пречистой Девы ее синие одежды означают траур по сыну. Желтый был цветом болезни и греха. Латинское слово «galbinus», от которого произошло слово «желтый»[109], имеет германский корень со значением «печень», «желчь». Она остановилась, прижала руку к бедру: что-то там закололо. Это все от злобы, от желтой желчи! Желтый — цвет завистников, скупцов, лицемеров, лгунов и предателей. Этот цвет соединяет в себе болезнь тела и болезнь души. Иуда всегда в желтом. Символический цвет его одежд был перенесен в средневековом сознании на все еврейские сообщества. Евреев преследовали, выселяли в отдельные, изолированные кварталы вроде римского «гетто». Церковные соборы резко осудили браки между христианами и иудеями и потребовали, чтобы евреи носили специальный опознавательный знак, шестиконечную звезду, ту самую зловещую желтую звезду, которую возродили нацисты, почерпнувшие эту идею в средневековой символике.
Зато зеленый… подумай о зеленом, воодушевилась Жозефина, глядя на деревья, лужайки, садовые скамейки. Вдохни хлорофилл, который дымкой поднимается со свежих нежных листочков. Пусть твой взгляд упивается зеленью, крылышком селезня на воде пруда, ведерком, в котором малыш печет пирожок из газонной травы. Зеленый — цвет жизни, надежды, он часто символизирует рай, но, становясь темным, почти черным, напоминает о беде, его надо остерегаться. Надо остерегаться черноты, заполняющей мою душу. Не то меня задушит угольная пыль гнева. Она моя сестра. Моя сестра. Она страдает. Я должна ей помочь. Накрыть ее белым плащом. Плащом света. Что это со мной? Раньше, когда она водила меня за нос, я так не нервничала. Не излучала ни желтого, ни черного, слушалась ее. Опускала глаза. Краснела. Красный — цвет смерти и страсти, палачи одевались в красное, крестоносцы носили на груди красный крест. Красными бывают платья у шлюх, у падших женщин… Красная кровь течет в жилах женщины, способной сбросить оковы и взбунтоваться… Я меняюсь. Взрослею, как непримиримый подросток, восстающий против авторитетов. Она рассмеялась. Я начинаю думать о себе, анализировать свои новые чувства, оцениваю их, взвешиваю, бросаюсь в крайности и потихоньку отделяюсь от Ирис, отдаляюсь, злюсь, как ребенок, но отдаляюсь.
Дю Геклен бегал вокруг нее. Трусил, вытянув морду, внюхиваясь в землю, впитывая запахи, оставленные другими четвероногими. Круги то расширялись, то сужались, но он неизменно возвращался к ней. Она была центром его жизни. При свете дня на его боках были заметны розовые проплешины, того болезненно-розового цвета, какой бывает после сильного ожога, а две черных полосы на морде напоминали маску Зорро. Он приближался, убегал, обнюхивал какую-то собаку, орошал кустик или упавшую ветку, бежал куда-то, возвращался и бросался ей под ноги, радуясь встрече после долгой разлуки.