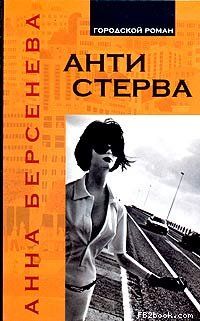Все-таки он растревожился вчерашними воспоминаниями о пленнике любви Аль-Мутайяме. Глаза Клавдия Юльевича Делагарда — голубые, с детским удивленным выражением — стояли перед ним так отчетливо, как будто он в последний раз видел их не сорок с лишним лет назад, а только вчера. И вина за его смерть была так же неизбывна, хотя Василий и сейчас, в старости, думал обо всем, что произошло с Еленой, так же, как в юности. Но как же ему тяжело было об этом думать!.. Эти мысли всю ночь держали его за сердце, как безжалостная рука, а сейчас они легли ему на грудь, придавили, не давая дышать…
— Тебе плохо, пап? — услышал Василий. — Я за мамой сбегаю!
Он открыл глаза и только после этого понял, что они были у него закрыты. И что ему плохо, он понял только в ту минуту, когда услышал, как об этом сказала его дочка.
— Почему… плохо?.. — с трудом шевеля губами, произнес он. — Я просто… вспоминаю.
— Ты совсем белый, папа!
Василий почувствовал, как она взяла его за руку. Он и раньше чувствовал, что живет только в те минуты, когда его жизнь как-нибудь соприкасается с нею. Но сейчас он понял, что пугает ее любым своим прикосновением, потому что любое его прикосновение — уже из того мира, в который ей нельзя заглядывать.
— Где… мама?.. — выговорил он. — Позови ее…
Ему хотелось, чтобы Лола ушла. Он чувствовал, как дрожат ее пальцы.
— Она к тете Зое, пирожки отнести… Папа, давай я тебе какой-нибудь укол сделаю! Папочка, ты же умираешь!
Он расслышал в ее вскрике слезы. Она никогда не плакала, разве что в самом раннем детстве, да и тогда очень редко. И по этим слезам в дочкином голосе Василий понял, что ее страх не напрасен. Она всегда была чуткая и сейчас все почувствовала правильно.
«Еще бы хоть немного, — мгновенно мелькнуло в нем. — Маленькая, еще маленькая…»
Он не понимал, когда это стало с ним — только что смотрел на отсветы солнца на яблоках и думал о том, что это любимое его время… Но теперь его дочка была права — он умирал. Он понял это по тому, что не боялся даже испугать ее. Он подошел к той черте, где уже нет страха.
— Лола… — последним усилием воли удерживая себя на этой черте, прошептал Василий. — Лена… Глаза сияют!..
Смысла своей последней фразы он уже не понял. Он произнес ее по тому, что там, где стояла его дочь и куда он смотрел невидящим взглядом, было сплошное сияние, сплошной серебряный свет. И он шагнул к своей дочке, шагнул к Елене, шагнул в этот бесконечный свет, чувствуя одно только счастье.
Лола любила осень больше всех времен года, а больше всего в осени любила ее свет — особенный, осязаемый, из-за которого воздух становился похож на расплавленное стекло. В Москве этот свет почти не был виден, да и в загородной усадьбе Романа он был совсем не такой, к какому она привыкла в детстве. Сад возле дома Кобольда был слишком декоративный, а такой вот настоящий осенний свет можно было, наверное, увидеть только в настоящем саду.
Здесь же, в Сретенском, сад был не просто настоящий, а какой-то бесконечный. Он начинался у самого крыльца и спускался к реке, которая, если смотреть на нее из окна, казалась бесконечно далекой. А потому и бесконечности сада удивляться не приходилось.
Лола приехала в Сретенское первым утренним автобусом, который шел от вокзала в Лебедяни. Она думала, что придется долго возиться с замком: ведь, кажется, Ермоловы редко бывали в этом доме. Но замок открылся легко.
«Здесь же девочка жила, — вспомнила Лола. — Которая Сережино несчастье».
Когда она вошла в дом, то подумала, что Антонина Константиновна, может быть, ошиблась насчет девочки. Никакого ощущения несчастья в этом доме не было; Лола чувствовала такие вещи сразу и никогда не ошибалась. А может, дело было в том, что девочка жила здесь давно?
Впрочем, ей совсем не хотелось разбираться сейчас в жизни какой-то чужой девочки, даже имени которой она не знала. Здесь было чисто, тихо и только немного сыро. Поэтому дом следовало поскорее протопить, а потом уж размышлять о таких отвлеченных вещах, как его неведомый дух. Лола любила простую работу, и не только потому, что к ней ее с детства приучила мама, но и потому что в любой простой работе было много жизни, а жизнь, скрытую внутри дел и предметов, она тоже чувствовала безошибочно.
Печку ей прежде топить не приходилось: в родительской квартире было паровое отопление, а камин в доме Кобольда печкой считать было невозможно, да она и не разжигала этот камин. Но ничего хитрого в устройстве голландки не оказалось; Лола легко растопила ее найденными в сарае дровами. Дров было мало, и они были яблоневые. Ну конечно, ведь кругом совсем не было лесов. Только широкие пространства — то луга, то тускло поблескивавшие осенние поля — и огромные сады, сквозь которые светилось октябрьское небо. Небо было такое густо-синее, что не верилось: неужели вчера оно затягивалось серой пеленой и рассыпалось снежными хлопьями?
Лола принесла в дом целую охапку яблоневых дров. Папа любил делать шашлык на сухих ветках, которые мама обрезала с яблонь, персиков, слив — говорил, что именно от них получается самый лучший жар и самый вкусный дым. И Лола всегда спрашивала: «Пап, ты на мой день рожденья какой шашлык сделаешь, абрикосовый или сливовый?»
День рожденья у нее был завтра, и его предстояло встретить в полном одиночестве.
В этом саду росли только яблони. Лола застала урожайный год — ветки склонились до самой земли, яблоки широко раскатились под деревьями. Они лежали и на просторном крыльце, по которому она, пройдя дом насквозь, спустилась в сад. И на всех деревьях они были разные. Богатая желтая антоновка, и лихая ярко-алая «цыганка», и томный бело-розовый штрейфель, и еще какие-то, названия которых Лола не знала — те были самые красивые, наливные, прозрачные, похожие на стеклянные фонарики…
«Сейчас, наверное, соседка придет», — вспомнила она.
Антонина Константиновна сказала, что за садом ухаживает девочка, с которой она дружила, когда жила в Сретенском в войну, и уточнила:
— Конечно, она старуха уже. Ты ей скажи, что моя племянница, она тебе докучать не станет.
Соседка и в самом деле вскоре пришла, и в самом деле оказалась не докучливой. Спросила, как Тонино здоровье, да вернулся ли из армии ее внук, а то был, говорят, в горячем месте, вот убили б, и Тоню жалко было бы, она в нем души не чает. Обо всем этом соседка расспрашивала не то чтобы без интереса, а как-то… Лоле показалось, точно так же расспрашивала бы ее о чем-нибудь яблоня, если бы вдруг заговорила.
Когда старуха ушла, она побродила еще немного по саду, постояла над рекой — неширокой, но глубокой и быстрой, с полуразвалившейся водяной мельницей, которая выглядела очень таинственно, — и, вернувшись к дому, села на крыльцо.