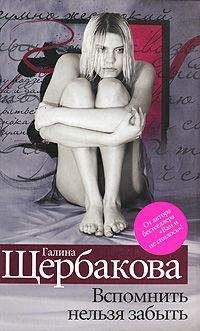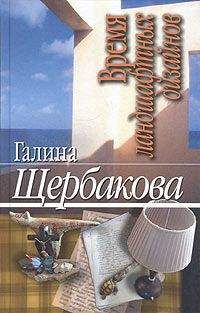Ознакомительная версия.
Комнаты их двушки были отдельные, между ними располагалась кухня. Хорошая кухня, квадратная, светлая, даже круглый столик поместился, делая кухню и столовой, и гостиной. Потому что с самого начала Анна Петровна решила – у них будут отдельные комнаты. Внучка получила лучшую. Расставленная на вкус бабушки мебель, конечно, потом будет сдвинута. Беспокойство вызывали фотографии, но бабушка все-таки повесила красивую свадебную фотографию сына и невестки именно в комнате Оли. В том, прошлом ее доме эта фотография висела в большой общей комнате. Там же рядом – ребенок закатывается от смеха, прижимая к груди мишку. Оля. Эту фотографию бабушка взяла себе. Все эти почти шесть лет она была хранима этим беззвучным детским смехом, который дал ей выжить. А стать старухой – значит, закончить цикл. Ей осталось всего ничего – укоренить девочку в новой жизни. Помочь и поддержать. Надо будет – спасти.
«Тебе это уже не по зубам, – говорила она себе, но тут же сплевывала эти слова. – Не имеешь права. По зубам! По зубам!»
Что-что, а зубы на самом деле были вполне. Все свои, чуть сточенные – ну так как же иначе? Столько перегрызть, перемолоть всего. Какое-то время они еще выдюжат.
Аля же вносила свою лепту в подготовку к выписке Оли. Но не только в платье, в кружевном лифчике и в бигудях, которыми она накручивала по утрам Олины волосы, было дело. К вечеру бигуди снимались, и Аля требовала, чтобы Оля провожала ее до самых ворот больницы. Она вела Олю гордо, не подозревая, что случаи превращения много раз описаны. И превращение замарашки в красавицу – сказочный штамп, не ею придуманный. Аля была уверена, что в случае локонов Оли она – единственная. Автор и исполнитель. О скудость школьного образования! О тщета искусств, драматических и балетных! О повторяемость идей!
Они шли по дорожке между лавочек, на которых сидели ходячие больные. Это сильно сказано – «сидели ходячие», но было именно так. И сидячие ходячие все знали про Олю и пялились на нее с невероятной жадностью эгоистов, желающих побороть свои инфаркты и раки и вот так же красиво и гордо потом пройти, как эта девчонка, которая столько лет была вообще мертвой (а какой же еще, если без понятия, где ты и кто ты), а сейчас идет вся такая фа-фа-ля-ля, будто и не было ничего. И сидячие ходячие впитывали, всасывали из этой тоненькой девушки силу, благословляя ее от всей души, ибо это было лично направленное (в смысле – на себя) благословение. Разве мой инфаркт, инсульт, рак, мои камни в почках, мое прободение и мой поломавшийся позвоночник можно сравнить с ее смертью, а значит, и я пойду так же… Пойду! Смогу!
Могла ли Оля подозревать силу воздействия своего выздоровления на народ? Ни боже мой! Она просто провожала Алю до калитки и еще какое-то время стояла, удивляясь идущим мимо молодым, громко говорящим по блестящему телефону, и всем другим людям, у которых жизнь не прерывалась, а значит, они были другими. Не прерванными. От этой отделенности, непохожести (вечной, навсегдашней) сжималось сердце. Но почему-то никогда не возникало мысли, где бы она была сейчас, не случись той аварии. Мысль не то что не приходила в голову, она, возникнув, тут же растворялась, столкнувшись с некоей большей силой ли, субстанцией, с чем-то таким, от чего Оля забывала о ней сразу и как бы навсегда. И единственным оставалось то, что она стоит у ворот, а люди идут. Иные люди.
Выписку назначили на середину августа. В палату уже приходили мастера и что-то вымеряли, как бы заранее стирая с лица земли и этот ее след. Мысль такая скользнула и исчезла, как ей и полагалось по закону исчезновения ненужных для восстановления живой человеческой природы мыслей-вредителей.
Незадолго до выписки Анна Петровна ходила в свой бывший техникум на юбилей своей коллеги. На банкете, на который ее силой задержали и где слегка напоили, язык развязался, и бабушка, не позволявшая себе никаких разговоров о внучке, выболтала свою боль: куда и как пристроить девочку? И пойдет ли у нее экстернат? И кто и что может сказать о ее способностях нынешних, будь они распрекрасными до того?..
– Как хорошо рисовала! А математику как щелкала! Уже читала Агату Кристи по-английски…
Тут и подсел к ней бывший техникумовский сотрудник, ныне «открыточный» издатель.
– А пусть она попробует нарисовать открытку. Вот такую…
И он протянул юбилейное поздравление, которое подносил виновнице этого торжества. Анна Петровна слепо смотрела на выпуклых зайчиков и синичек; синички держали в клювах поздравление юбиляру, а зайчики бежевым кирпичом мостили некую дорогу в никуда, оно же светлое будущее, оно же благополучие, и у всех птицезверей были умиленные мордочки, но не противные от сладости умиления, а в хорошем смысле добрые, верящие, что дорога из кирпичиков на самом деле куда-то ведет.
Воспитанная на идейно содержательном искусстве, Анна Петровна чуть было не сказала что-то не то, но ее будто за горло кто-то взял и голосом синички спросил: «А у тебя хоть какой-то другой вариант есть?» Его не было. И она обменялась с бывшим коллегой номерами телефонов, а открытка скользнула в сумку.
Оля была подготовлена к тому, что будет жить в другой квартире. По закону фокусов памяти почему-то стали исчезать контуры той, родительской квартиры, и на освобожденном пространстве, на плане квартиры, нарисованном бабушкой, она стала обустраивать ее, подпитавшись единственной пищей – журнальным глянцем, предложенным Алей. Оле страстно хотелось домой, вон из больницы, «сюда я больше не ездок». Фраза эта возникла и не захотела уходить. Такая сама по себе победительно замечательная. Не ездок – и все тут. И нечего задавать лишних вопросов. Господи, да это же Чацкий. Весь такой ни к селу ни к городу в доме Фамусовых. Там была еще барышня… Как ее? Соня? Софья? Дурь! Софья – мудрость. А какая же у барышни мудрость? А такая! – ответил глянец. Синица в руке лучше журавля в небе. А Чацкий – типичный русский птица-перелеток, сегодня здесь, завтра – там. А которые Молчалины – те всегда при тебе. Нет, ей нужен Чацкий. Дура! – кричал глянец. – Лучше всего, конечно, Скалозуб. Полковник все-таки, не хухры-мухры. Настоящий полковник!
И всплыла песня голосом самой глянцевой из всех глянцевых певиц: «Насто-я-я-щий полковник».
Аля приносила ей кассеты. Шишечку в ухо – и плыви, плыви себе по воле звучащих волн. «Струит эфир». Откуда это?
Домой ее отвозили на машине хирурга больницы. Классный специалист, классный мужик.
– Чего я для тебя не сделаю? – сказал он Марине. И уже все сделал.
Марине оставалось работать главврачом ровно неделю. «Это хорошо, – думал хирург, – что я успеваю довести ее племянницу». Сам он мысленно уже давно сидел в ее кресле. Такая дура баба, не умеет выбирать клиентов среди больных, не умеет дать им возможность быть благодарными. Он все сделает как надо. И во-первых, как надо отвезет восвояси этот крест больницы – племянницу Олю. Поблагодетельствовала мать Марина? Ну, и умница. Дай порулить другим. Он оставит Марину в больнице. Лучше нее лора нет. Но это и ее потолок. Он же – и пол, и плинтус, и стены, сумеет работать по-современному, наверстает разницу в зарплате. А неудачник пусть плачет, у него такая стезя. Она же доля, она же судьба, она же жизнь. Ох, эти новые русские, рвут зубы без анестезии.
Ознакомительная версия.