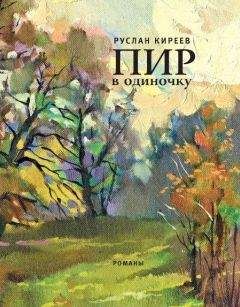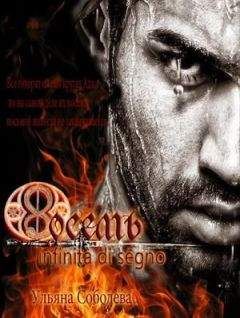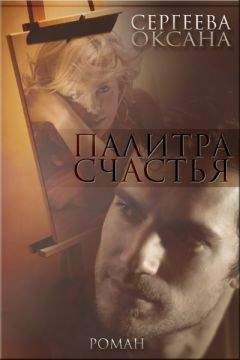Ознакомительная версия.
Шагун сделал две книги К-ова, третью начал, но не успел. Вот так же раздался однажды утром звонок, и некто, отрекомендовавшийся приятелем Феликса Шагуна, сказал, что Феликс умер. «Как умер! – не поверил ушам своим К-ов. – Позавчера по телефону говорили». – «А вчера умер. – И – после небольшой паузы: – Мы тут скидываемся на похороны…»
Мы – это друзья: ни семьи, ни родственников у Шагуна, завзятого холостяка, не было…
Встретились у метро, К-ов неловко сунул конверт с деньгами, и вот теперь, год с лишним спустя, получил из рук этого же человека розовый, из-под фотобумаги, пакет с рисунками.
На ощупь их было немного, штук семь или восемь (оказалось – девять), беллетрист, замедлив шаг, наполовину извлек один – умное тонкое лицо мужчины с напряженным взглядом – и, не признав в нем своего героя, сунул обратно…
Познакомились они в издательстве, куда художник принес показать автору эскиз оформления. Обычно процедура эта занимает несколько минут, а тут растянулась часа этак на два, не меньше.
Вначале К-ов решил, что перед ним алкаш: розоватое, с припухшими веками лицо, красные глаза, седые редкие волосики аккуратно зачесаны на лоб, да и одет богемно: мягкая курточка на широких сутулых плечах, джинсы с подвернутыми штанинами, – все это молодило его, как и прямо-таки юношеская горячность. Голоса, впрочем, не повышал, говорил тихо и рассудительно, проникновенно, близко глядя на К-ова и обдавая его, некурящего, густым табачным духом. Сигарету за сигаретой запаливал, не замечая, что не докуривает, вообще ничего вокруг не замечая, – так увлечен был мыслью, уже далеко отлетевшей от скромных повестей сидящего перед ним автора (начал-то с них, выказав удивительное знание текста: художники, как правило, читают рукопись по диагонали), – отлетевшей в такие заоблачные дали, в такие философские эмпиреи, что застигнутый врасплох К-ов не всегда мог уследить за нею. С радостью согласился продолжить беседу, но уже в мастерской, куда и явился вскорости, захватив бутылочку, и тут-то выяснилось, что Шагун не пьет. «Завязал?» – с пониманием спросил гость, и хозяин, застенчиво улыбаясь (о, эта его неуверенная, виноватая, мягкая улыбка, появлявшаяся всякий раз, едва речь заходила о самых обыденных, житейских делах, в которых он ничегошеньки не смыслил, чем отнюдь не гордился, упаси бог, – недостатком считал), – застенчиво улыбаясь, признался, что нет, не завязывал, просто алкоголь с молодых лет действует на него плохо, туманит голову, а он не любит этого. Он любит, чтобы мозг был, как бритва на морозе, – именно это сравнение употребил Шагун, но опять-таки как бы оправдываясь улыбкой и за слишком уж красивый, слишком литературный образ, и за то, что говорит о своей персоне, чего вообще-то терпеть не мог. Кривился, когда хвалили его работы, ибо сам их не принимал всерьез и переделывал бесконечно.
Другие ценили его куда больше. Престижные заказы получал: оформить, к примеру, Достоевского, причем не обычное издание, а юбилейное, с иллюстрациями, – К-ов помнил, как зажегся Шагун, как специально ездил в Петербург (тогда еще Ленинград, но художник упорно называл его Петербургом), как штудировал старые книги и старые альбомы. А еще помнил свое изумление при виде эскизов. «Кто это?» – спросил, вглядываясь в изможденного, объятого страхом человека, который ну никак не мог быть Раскольниковым. Тот и моложе был, и мужественней, в этом же что-то старушечье проскальзывало, от убиенной процентщицы, о чем К-ов и сказал осторожно, боясь ранить самолюбие автора, но автор, напротив, возликовал. «Конечно! Конечно! Мы превращаемся в того, кого убиваем… В этом, – поднял он палец, – и есть смысл наказания… Кто такая Алена Ивановна? Тварь дрожащая, да? – всего боится, на всех с подозрением глядит, ненавидит весь мир, который, воображает она, только и занят тем, что выслеживает ее да ставит ловушки, и таким-то – обрати внимание! – становится после убийства Раскольников».
К-ов даже малость опешил от столь экстравагантной трактовки. «Ну, положим, – возразил, – не только таким. Алена была патологически скупа, а Раскольников, если помнишь, отдает последние гроши…» – «Верно! – окатили его табачным дымом. – Совершенно верно… Он ведь не только Алену укокошил, но и сестрицу ее Лизавету, святую женщину. Слышишь: свя-ту-ю… То-то и оно! Раньше-ка, заметь, святости в Родионе Романовиче было не шибко много… Мы превращаемся, – повторил он с пафосом, но по-прежнему не повышая голоса, а даже еще понизив, почти до шепота, и еще ближе придвинув вдохновенное лицо, – мы превращаемся в тех, кого убиваем!»
Беллетрист молчал, собираясь с мыслями. «Это твоя теория?» – спросил наконец, зная, какие редкие, какие экзотические книги откапывает и читает ночи напролет (оттого-то и глаза красные!) иллюстратор его сочинений.
Шагун смутился, очередную закурил сигарету. «Моя», – признался.
Да, книга были его страстью – из его именно рук впервые получил филолог К-ов тогда еще опальные томики Бердяева и Шестова, Леонтьева и Розанова… В некоем идеальном мире обитал художник Феликс Феликсович, а если и выходил в реальный с его спешкой, с его давкой и духотой, то лишь затем, чтобы заработать на хлеб и сигареты – для себя, и на цветы с конфетами – для прекрасного пола.
Женщины обожали его. Даже те, кто любили другого, относились к нему с благодарной нежностью и расцветали под его взглядом, под светом и теплом его удивительных комплиментов. Точно в волшебное смотрелись зеркальце, которое если и льстило им, то льстило так искренне и так ласково, с таким трепетным и притом бескорыстным восхищением, что это уже была не лесть, не ложь, а чистейшей воды правда. Женщины купались в ее лучах, расцветая, мужчины же, которые считали их своими женщинами, тихо закипали от бессильной ревности. С К-овым, во всяком случае, имевшим глупость явиться в мастерскую Шагуна с подругой, приключилось именно это. Он чувствовал, как его прелестница уходит от него, околдованная хозяином, слышащая только его, видящая только его, его только осязающая – да-да, и осязающая тоже, хотя ни разу не коснулись друг друга; просто седой, сутулый, но вдруг волшебно помолодевший фавн передал ей чашку со свежезаваренным кофе, всего-навсего, но сделал это с таким благоговением, а она, в свою очередь, приняла ее с такой осторожностью, что невинная процедура эта превратилась в помутневших глазах ревнивца в некое интимное таинство. Точно не горячий кофе несла в себе грубая посудина, а тепло ласковых, с длинными пальцами, умелых – это понял даже К-ов, – сильных мужских рук. «Спасибо», – тихо молвила женщина – самое обыденное, самое нейтральное слово, но боже, как прозвучало оно в ее устах и как ответил ей Шагун, теперь уже совсем молодой (а был, между прочим, на десяток лет старше своего нерасторопного гостя), как улыбнулся, как протянул вазочку с сахаром!
Ознакомительная версия.