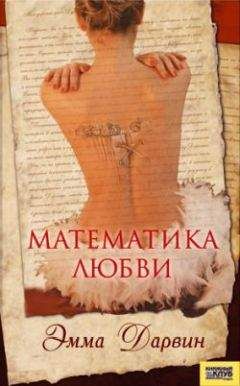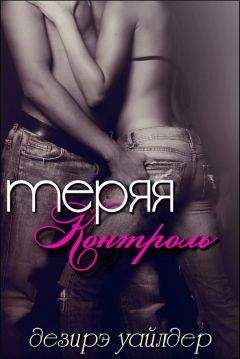Между ног у нее появилась кровь.
«Так мало крови, – мельком подумал я, – в результате столь большой перемены. Но она не должна лежать, испачкавшись в ней. Раны следует заживлять».
Я наклонился над ней и принялся осторожно и бережно убирать следы крови поцелуями. Вкус ее показался мне сладким и сладостным. Она испуганно вздохнула, но вскоре я ощутил, что она успокоилась и расслабилась. Кожа ее потеплела, дыхание участилось, она пошевелилась и раскрылась под моими поцелуями.
Скорее, чем я мог ожидать, ее тело, казалось, поняло, что от него требуется, а потом ее охватила дрожь сладостного предвкушения, столь сильная, что я поспешно стер кровь с губ и вернулся к ней.
На этот раз она радостно приняла меня, наградив поцелуями за мою нежность, и ее растущая страсть только усиливала мою собственную. Когда наконец я полностью овладел ею, то позволил своей безумной радости захлестнуть себя и перед тем, как раствориться в океане блаженства, еще успел мельком подивиться тому, что мы с ней все-таки сумели обрести счастье.
Приветственные крики и грохот музыки неумолчно звучат у меня в ушах. Они неизменны и постоянны, как жаркое марево и черная пыль, сквозь которую мы движемся. Я спотыкаюсь, пытаясь пробраться между неподвижными человеческими телами и металлическим ограждением.
Кавалерия. С юго-запада. Они идут на рысях, врассыпную, с саблями наголо и рубят всех подряд, будь то мужчина, женщина или ребенок, оказавшийся в пределах досягаемости. Под копыта лошадей валится какой-то юноша, девушка с криком опускается на землю, я пытаюсь ухватить лошадь под уздцы, но всадник смотрит на меня пустыми глазами. Он не видит меня. Я отлетаю в сторону как пушинка, сбитый с ног огромным мужчиной, который ищет хоть какое-нибудь оружие, и тоже падаю на землю.
Я ничего не вижу, кроме жгучей и ослепительной темноты, и ничего не чувствую, кроме ударов.
Я с трудом приподнимаюсь и встаю на колени посреди груды щебенки, кирпичей и железных прутьев. Неподалеку на камнях, прижав руки к груди, неподвижно лежит какая-то женщина, и сквозь пальцы у нее сочится кровь. Лицо ее повернуто в другую сторону, но я уверен, что это Каталина, это должна быть она. Я не могу прикоснуться к ней. И ничем не могу ей помочь.
Потом она встает, и я вижу наконец ее лицо.
Это Люси, она невредима и улыбается.
– Стивен? – Она протягивает ко мне запачканную краской руку. – Разве вы не знаете? Ребенок нашелся.
Звуки просыпающегося к жизни гостиничного дворика разбудили меня рано утром. За окнами негромко шелестел дождь. Приподнявшись на локте, я увидел, что Люси еще спит. Она лежала на боку рядом со мной, уткнувшись носом в подушку. Ее ночная сорочка измялась, а темные волосы рассыпались по постели. Я долго смотрел, как она спит, ощущая тепло ее тела, слыша ровный ритм медленного дыхания, и в груди у меня теснилось неведомое ранее чувство спокойного умиротворения и радости. Ее волосы пахли дымом и немножко солью, напоминая о нашем путешествии на корабле. Свет за окном стал ярче, и дождь прекратился.
Она пошевелилась, потом замерла, словно ей вдруг стало больно от неловкого движения, и по лицу ее скользнула тень замешательства.
Я снова опустился на постель, чтобы прижать к себе и утешить свою любовь.
Она вновь пошевелилась, когда я обнял ее, как будто пыталась понять, что же она чувствует. Боль? Отвращение? Страх?
О Боже! Что же я наделал? Какое безумие овладело мною? Потому что ничем иным, кроме как безумием, это не было и быть не могло: разве можно назвать любовью то, что я причинил ей такую боль?
Она почувствовала, что я отпрянул, и, полусонная, попробовала сесть на постели, прикрыв грудь ночной сорочкой и глядя на меня непонимающими глазами. Если бы я не боялся еще больше оттолкнуть ее от себя, то не удержался бы и привлек ее в свои объятия, поцелуями рассеяв ее сомнения. Но я решился лишь на то, чтобы тоже сесть на кровати. Мы взглянули друг на друга.
Наконец я отважился произнести:
– Прошлой ночью… боюсь, что я причинил вам боль.
– Всего только на мгновение, – ответила она, но в глазах ее по-прежнему читалось сомнение, а в движениях ощущалась некоторая опаска и отстраненность. Внезапно она сказала: – Но сейчас, при дневном свете, вы явно сожалеете об этом.
– Только потому, что люблю вас, – ответил я дрожащим голосом. – Я нанес вам непоправимый вред.
– Дело… Дело только в этом? – Она более ничего не добавила, а потом вообще отвернулась, съежившись и прижавшись к изголовью кровати, и продолжила негромким голосом: – Теперь, когда я уже не… Я боюсь, что между нами все изменилось.
В лучах солнца, просачивающихся сквозь ставни, она показалась мне такой маленькой и беззащитной, что я вдруг понял, что протягиваю ей руку ладонью вверх. Что я при этом имел в виду, то ли ободрял, то ли умолял ее, я не знал и сам.
– Люси, изменилось все и в то же время ничего. Я люблю вас и более чем когда-либо хочу, чтобы вы стали моей женой. – Она по-прежнему молча смотрела на меня. – Но только от вас зависит, как мы будем теперь относиться друг к другу. Если вы предпочтете не… – Меня охватил страх, и голос мой прервался.
И тут она рассмеялась. Это было настолько неожиданно, что я вздрогнул.
– Ох, милый мой Стивен, какой же вы дурачок! Вы показали мне доселе неизведанный и незнакомый мир, а теперь боитесь, что я сожалею об этом!
Итак, слова более не были нужны. Мы отпраздновали нашу помолвку, вновь соединившись друг с другом, и на этот раз спутником нашим была не боль, а одна только радость. Вокруг нас медленно просыпались городок и гостиница.
Поездка в Бильбао оказалась долгой, и дожди, налетавшие с Атлантики, еще не один раз вынуждали нас останавливаться, чтобы поднять верх коляски, но мы не скучали. Свернув на запад, дорога поднималась все выше и выше в горы, цепляясь за скалы и прижимаясь к их склонам, и великолепие местности, по которой мы ехали, заставило Люси вновь взяться за карандаш. Я наблюдал, как она вбирает в себя окружающую красоту: одинокую древнюю часовню, застывшую на скале, далеко уходящей в море; солнечные лучи, дождем падающие на землю между стволами высоких и стройных корабельных сосен; реку, пробившуюся через ущелье только затем, чтобы раскинуться на зеленом просторе и величаво нести свои воды в залив. Присутствие возницы на облучке делало невозможным для нас обмениваться иными знаками внимания, кроме улыбок, но ее присутствие рядом – разговаривала она или рисовала – служило для меня источником такой радости, что у меня и мысли не возникло нарушить правила приличия. И даже нетерпеливое ожидание ночи не отравило мне эти благословенные часы.