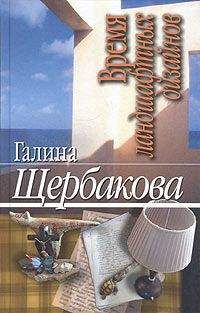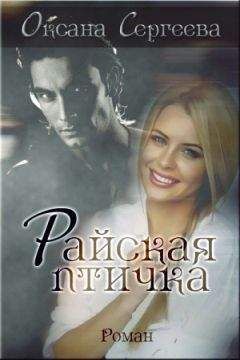Ознакомительная версия.
Старшая сестра, тетя Анна, которая умела готовить супы всех народов и разговаривать с людьми, не зная ни единого слова, к тому времени очень ослабела. Казалось бы, по нашим временам, какие годы? В том сорок восьмом ей было всего пятьдесят, а маме Фриде – тридцать пять. Это она, Фрида, всю молодость таскала на закорках замотанную в тряпки племянницу. Это она сказала первое свое решительное слово: «Ребенку нужен город, чтоб учиться, а нам надо осесть». Она надела перешитую из старого пальто юбку, кожаную кацавейку из кусков бараньей шкуры. Бабушка нашла в мешке гребень из тех, что носили прежние дамы, подколола Фриде кудрявые волосы и воскликнула: «Цимес!» Плохо было с обувью, но соседка-армянка достала с чердака чемодан, где лежала еще довоенная обувь, и они нашли там стоптанные лодочки, которые были слегка великоваты. Ну и что? Не баре!
И Фрида поехала в Р. Город уже взбрыкивал новой послевоенной жизнью, горели фонари и играла в ресторанах музыка. К счастью, не все евреи были убиты, талантливого Семена Эмса помнили, но считали погибшим. В их бывшей квартире жили ни в чем не виноватые перед ними люди, чьи дома были сожжены дотла. Фриде посочувствовали и показали квартирку в подвале, по колено залитую водой. Прислали насос, откачали воду. «А дальше делай сама, хозяйка. Заливов больше не будет, потому как от воды дом отрезали». Во дворе стояла колонка. Чуть подальше – двустворчатый сортир на «М» и «Ж».
Фрида умела все. Она сама и оштукатурила, и побелила две комнатки с окнами, ровнехонько лежащими на земле. Одноногий инвалид сложил им печку, зная секреты вывода дыма из больших домов. На это ушли почти все деньги Фриды. Знакомые охотно отдавали беженке разные странные вещи, оставшиеся в квартирах после бомбежек. Брезговать не приходилось. Фрида притащила с барахолки три полусгоревших ковра для пола – боялась, что квартира стоит, в сущности, в земле. И тут же начинала смеяться: они, кроме как земля, места для жизни не знали уже восемь лет, но поди ж ты! Стоит и топится печурка, на окошках разномастные куски тюля, круглый стол накрыт дробленым молью плюшем, зато на нем стоит дискобол. Денег, чтобы привезти мать, сестру и девочку, нет, и она пишет им письмо, какой лучше дорогой добираться, где пересесть на прямой поезд. Она объяснила, на какой станции дать телеграмму, чтоб она смогла их встретить. Предупредила, что поезда ходят медленно, застревают, но что хорошо – за это время на остановках можно недорого купить еду. «Ничего из оставшегося не продавайте, раздайте людям, пусть берут даром. Сохраните только все документы».
По дороге бабушка умерла. Просто умерла и все, в ней кончилась жизнь, она выполнила задание Бога. Старшую сестру Анну взяли лаборанткой на математический факультет, где перед войной учился Семен. У того в голове долго сидел бред: советской стране нужен, как ничто, финансовый порядок. Он потерял полтора года в финансовом институте, зато нашел там большую русскую девицу с рыжими глазами. Рядом с ней он смотрелся длинноногим подростком. Фрида (это фокус памяти) забыла напрочь фамилию избранницы. Здесь, в подвале, их настигли доклад Хрущева, возвращение заключенных и простая горькая мысль: раз брат не вернулся, значит, его нет. В университете Анне сказали: Семен был приговорен к расстрелу. Странное утешение: муки его были недолгими.
А подвал стал потихоньку обживаться. Фрида купила племяннице кровать и даже нашла на свалке выброшенный детский письменный столик. Вот тут, на свалке, и приметил статную немолодую даму Сонин папа, инвалид войны Николай Симонов, царство ему небесное, не дождался, бедняжка, внука. Но тогда, когда он искал на помойке какую-никакую полочку для зубного порошка, мыла и щетки, он еще не знал, что умрет от рака через пятнадцать лет, что его безумно будет любить эта женщина со свалки с гребнем в густых волосах, что у нее в трудных поздних родах родится прелестная куколка, увидев которую, он вскрикнет: «Сонечка», а Фрида спросит: с какой стати «Сонечка»? И он, сбиваясь и как бы даже виноватясь, будет ей объяснять, что для него Софья – это красота, мудрость, жизнь и надежда, что у него за всю жизнь не было ни одной знакомой Сони, и не встреть он Фриду, он, может, так и продолжал бы искать Софью, но Фрида, в сущности, оказалась Софьей, а значит… Ну что поделаешь с верой в силу имени!
Мама очень сдала после смерти папы. Хорошо, что с нею осталась Нюра.
Нюрка, Нюрка! Мама привела ее, найдя где-то у мусорного ящика. Девчонка лет двух-трех грызла какой-то обварок. Такое чудовище, что ни в сказке сказать. Мама тут же бросила все и стала устраивать дитя в детдом. Девочку приняли хорошо, приветливо. Но эта проклятая мамина дотошность – знать, как все на самом деле! Пошла проверить. Сопливый ребенок сидел на полу, возле обувных ящиков, и грыз чей-то сандалик. Конечно, мама устроила скандал. Конечно, ее послали куда надо, потому что за такие деньги – раз… при такой нехватке кадров – два… и вообще над этой поганью надо с плетью стоять, русского языка не понимает… а уж эта «ваша» – кусок дерьма, а не ребенок.
Мама рассказывала, что ее как ударило в сердце. Она вспомнила, сколько людей – цыган, казахов, русских, татар – кормили и поили их, отрывая от себя; вспомнила, как мальчики-подростки прикапывали их в погреб, когда близко слышалось «юден», «юден»… Как старухи-знахарки где-то под Хвалынском приготовили мазь для синюшней сочащейся кожи Мирры.
Сердце ударилось еще раз, и мать привела маленькую Маугли домой. Ей дали имя Анна, как сестре Фриды. Собственное имя казалось Соне несовременным, и она слегка невзлюбила чужачку, которая стала как бы сестра, на восемь прикидочных лет моложе, а главное, носила имя королев и царевен. И намаялись они с ней – не дай Бог! А потом как-то враз, просто в момент, Нюрка стала человеком. И хорошо училась, и все норовила помогать матери, а однажды сказала маме странное: «Я все помню. Прости». «Нечего помнить, – сказала мама. – Забудь. Плохое надо забывать так сильно, что если оно встретится на дороге, ты не узнаешь его в лицо, и тогда оно пройдет мимо. Зло ищет тех, кто помнит зло».
Конечно, жизнь была трудная. Позже им достались два больных старика, дядя Семен и его полуножка Вера. Хорошие люди, ничего не скажешь, но мама – успевай вертись. И тут Нюрке цены не было.
А в последний год от них практически не уезжала живущая в Германии Мирра. Дети у нее большие, дом организован, все спокойно. В России никогда не скажешь – все спокойно. Может, потому, что для русских «покой» и «спокойствие» – слова хоть и близкие, родственные, но и разные тоже. Это заметил Даль. В спокойствии зарыты удобства жизни, отсутствие тревог, достаток и уход, а в покое – бездействие, косность, костенение, недвижность. Спокойствие – это дорога к счастью, а покой, как ни крути, – к смерти. О, великий, могучий русский! Бывает, говорим об одном и том же, а получается – о разном. Так и живешь ощупью, ибо слово – оно же путь – так и не найдено.
Ознакомительная версия.