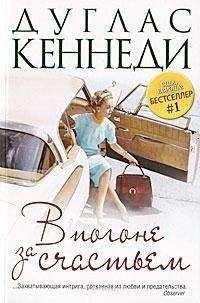Он резко побледнел:
Я не знал. Мне так…
Это я должна просить прощения. Нужно было с самого начала все тебе рассказать. Но я оказалась трусихой…
Он поднял руку.
Не надо ничего объяснять, — сказал он.
Доктор сказал, что если бы ты не подоспел…
Последовала неловкая пауза.
Мне, наверное, лучше уйти, — сказал он.
Спасибо, что навестил. Спасибо, что…
Могу я спросить? — перебил он меня.
Я кивнула.
Тот парень, от которого ты ждала ребенка… ты его любишь?
Любила. Очень.
Все кончено?
Безвозвратно.
Нет, — сказал он, — я же вижу.
Мне нечего было ответить. И я отделалась отговоркой:
Давай поговорим, когда я выйду отсюда.
Да, конечно, — сказал он.
Мне жаль, Джим. Очень жаль.
Все нормально.
Но я знала, что это не так. К тому же я понимала, что новость о моей госпитализации быстро разлетится по Брансуику. Разумеется Дункан Хауэлл уже знал о том, что меня экстренно доставили в госпиталь, о чем свидетельствовала цветочная композиция, которую принесли в тот же день. К ней была приколота карточка:
Поправляйся быстрее… От коллектива «Мэн газет».
Я и не ждала эмоциональных восклицаний. Но сдержанный характер послания заставил меня задуматься о том, известно ли мистеру Хауэллу об истинной причине моего недуга.
Доктор Болдак сказал, что в связи с хирургической операцией и большой потерей крови мне придется задержаться в госпитале дней на десять. Я беспокоилась о том, что срываются сроки выхода моей колонки, и позвонила в офис главного редактора. Впервые с тех пор, как я начала писать для «Мэн газет», мистер Хауэлл не ответил на мой звонок. Вместо него к телефону подошла секретарь и сообщила, что главный редактор «на совещании», но он хочет, чтобы я отдохнула еще две недели, «с полным сохранением содержания».
Это очень великодушно с его стороны, — сказала я. — Пожалуйста, передайте ему мою благодарность.
Следующие десять дней я провела в послеоперационном дурмане. Хотя боль притупилась, я испытывала серьезный физический дискомфорт. Должно быть, я была очень убедительна в своих жалобах, поскольку доктор Болдак и медсестры разрешили мне держать под рукой инжектор с морфием. Бывают в жизни минуты, когда тебе не хочется ясности мысли, правды, трезвости. Я переживала как раз такой момент. Каждый раз, когда я чувствовала, что ко мне возвращается память, я сжимала инжектор. Я знала, что пройдет десять дней, и мне придется встать с этой постели и жить дальше. Но пока я предпочитала наркотическое забытье.
Рут навещала меня через день. Она приносила домашнее овсяное печенье, журналы и однажды даже прихватила бутылочку бренди.
Кому нужно бренди, когда есть эта штука? — сказала я, показывая инжектор.
Все средства хороши, — ответила она с тревожной улыбкой.
Она предложила поработать моим почтальоном.
Никакой почты, никаких газет, никакой реальности. Я отдыхаю ото всего.
Я видела, как она косится на инжектор в моей руке.
Эта штука действительно помогает забыться? — спросила она.
Еще бы, — ответила я. — Я подумываю о том, чтобы установить ее у себя дома.
Блестящая идея, — сказала она. По ее тону я поняла, что она старается отнестись к моим словам как к шутке. — Ты уверена, что тебе ничего не нужно?
Кое-что нужно.
Скажи.
Полная потеря памяти.
За два дня до выписки медсестра забрала у меня морфийный инжектор.
Эй! Он мне нужен, — возразила я.
Уже нет.
Кто это сказал?
Доктор Болдак.
А как же боль?
Мы дадим вам таблетки…
Таблетки — это не то.
Они снимают боль.
Но не так эффективно, как морфий.
Вам не нужен морфий.
Нет, нужен.
Тогда договаривайтесь с доктором.
Таблетки снимали боль, но были бессильны унести меня в страну-утопию, как это делал морфий. Я не могла уснуть. Ночи напролет я лежала, разглядывая больничный потолок. Ближе к рассвету я начинала понимать, что ненавижу эту жизнь. Она была слишком жестокой и в то же время слишком хрупкой. И приносила мне слишком много боли. Пожалуй, лучше всего было бы распрощаться с ней сейчас. Потому что я знала, что, как только морфий «покинет» мой организм, мне предстоит столкнуться с реальностью, и я не выдержу. Мои запасы силы, стойкости, сопротивления были исчерпаны. Я больше не хотела жить с такой невыносимой душевной болью. И не представляла, как смогу существовать в состоянии постоянной озлобленности. Поэтому альтернатива была очень простой: уйти раз и навсегда.
Медсестра оставляла мне на ночь две болеутоляющие таблетки. Я хотела попросить доктора Боддака выписать меня с запасом этих таблеток. Уже дома я бы открыла бутылку приличного виски. Развела бы таблетки в щедрой порции алкоголя. Потом надела бы на голову пакет, замотав его скотчем, чтобы исключить попадание воздуха. Легла бы в постель. Коктейль из таблеток с виски вырубил бы меня. И я бы тихо умерла во сне.
Я потянулась к таблеткам. Проглотила их. И снова уставилась в потолок. Мне вдруг стало очень легко от сознания того, что жить осталось всего сорок восемь часов. Я начала мысленно составлять список неотложных дел. Необходимо было позаботиться о завещании. Наверняка в городе найдется адвокат, который окажет мне срочную услугу… разумеется, если не будет знать о том, что мое завещание вступит в силу на следующий день после того, как я подпишу его. Потом нужно будет заняться организацией похорон. Никакого отпевания в церкви. Никаких прощаний. Может быть, скромный некролог в «Нью-Йорк таймс», чтобы мои немногочисленные знакомые на Манхэттене узнали о моей кончине. Но разумеется, обойдемся без пышного погребения. Достаточно будет кремации здесь, в Мэне, а уж местные гробовщики пусть сами решают, что делать с моим прахом. А мои деньги? Моя так называемая собственность? Оставить все…
Кому?
Некому. Ни мужа. Ни семьи. Ни ребенка. Ни любимых.
Любимых. Какое простое слово, чтобы описать главную потребность в жизни. Но кто были мои любимые? Кому я могла завещать всё, что у меня было? Я была одинока. Моя смерть никому не помешает. Она никому не принесет горя… так что мое самоубийство не станет эгоистичным поступком или, того хуже, актом мести. Это будет радикальная, но необходимая форма избавления от боли.
Таблетки сделали свое дело. Я провалилась в глубокий сон. Проснулась я поздним утром. На душе было удивительно спокойно, я как будто освободилась от всего, что меня мучило. Теперь у меня был план, было будущее, было к чему стремиться.