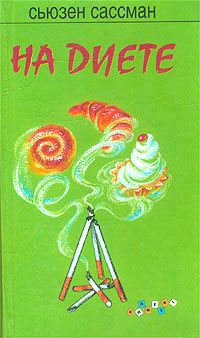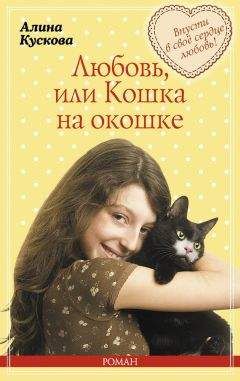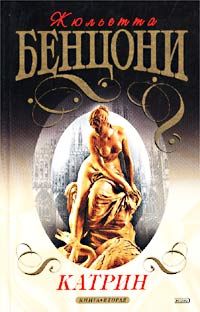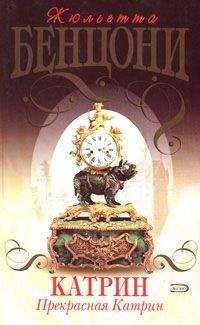Ты видишь, Дю Геклен, в этом особое мастерство Бальзака, он описывает нам одежду человека, а мы проникаем в его душу! Деталь, деталь прежде всего! Но детали в один день не соберешь, на них нужно тратить время, терять его, транжирить, чтобы поставить в нужное место слово, образ, мысль. Сейчас никто не пишет, как Бальзак, потому что никто не хочет терять время. Сейчас пишут: «хорошо пахло», «стояла хорошая погода», «было холодно», «он был хорошо одет», не выискивая словечки, сидящие как перчатка и показывающие наглядно и точно, что погода хорошая, запах чудесный, а человек нарядный.
Она положила книгу и задумалась. Надо бы все-таки поговорить с Гарибальди о Луке. Он записал бы его в свой список подозреваемых. Я была неправа. Я обозлилась на него и не сказала о самом опасном из всех моих знакомых! Она погладила покрывало, заплела длинную бахрому в косичку и вновь взялась за чтение. И тут — новый звонок. Третье эсэмэс.
«Я знаю, где вы, Жозефина. Ответьте».
Ее сердце забилось. А если это правда?
Она попыталась дозвониться Ирис. Тщетно. Видимо, ужинает с красавцем Эрве. Жозефина проверила, все ли двери заперты. Большие окна с толстыми стеклами якобы противоударные. Но если он пролезет через крышу? Там везде дыры. По фасаду легко добраться и до балкона. Надо погасить свечу. Он не поймет, что я здесь. Да, но… ведь он увидит раздавленную деревом машину.
Вдруг эсэмэски посыпались градом. «Я в дороге, еду», «Ответьте, не сводите меня с ума», «Вы так просто не отделаетесь», «Я приеду и отучу вас задирать нос», «Стерва! Шлюха!», «Я в Туке»[143]. Она тревожно покосилась на Дю Геклена, но тот не двигался. Ждал, положив голову на лапы, что она вновь начнет читать или откроет новое ведерко с мороженым. Она подбежала к окну, чтобы оглядеть ночной сад. Он, наверное, узнал от своей консьержки, что я заходила, что мы с ней разговаривали, и теперь боится, как бы я не разболтала в университетских кругах, что он позирует в трусах для рекламы… Или он знает, что меня многократно вызывал Гарибальди…
Позвоню-ка я Гарибальди…
У меня только его рабочий телефон…
Она вновь попыталась позвонить Ирис. Услышала автоответчик.
Снова сигнал, снова эсэмэс.
«Сад красивый, море близко. Взгляните в окно и увидите меня. Готовьтесь».
Она подошла к окну, дрожа от страха, оперлась на подоконник, выглянула наружу. Ночь была такая темная, что она увидела только огромные тени деревьев, трепещущие на ветру. Деревья гнулись, ветки трещали, порывы ветра срывали листья, листья падали, кружась… Они все были убиты. Зарезаны ножом, в сердце. Рука обвивается вокруг шеи, душит, давит, словно тисками, а другая рука вонзает нож. В тот вечер, когда на меня напали, он хотел поговорить со мной, «мне нужно поговорить с вами, Жозефина, это важно». Он хотел признаться во всем, но у него не хватило смелости, и он решил уничтожить меня. Ушел и оставил меня, думая, что я умерла. Не звонил два дня. Я послала ему три сообщения. Он не отвечал. Потому он и был так равнодушен, когда мы встретились с ним на берегу озера. Потому так холодно отреагировал на рассказ про покушение. Он просто не мог понять, как же мне удалось спастись. Только это его и занимало. Нет, что-то не срастается! Мадам Бертье, Бассоньериха, девушка из кафе? Они с ним не знакомы. А что ты об этом знаешь? Что ты знаешь о его жизни? Бассоньериха наверняка знала больше.
Она дрожала как осиновый лист, стоя у окна. Он войдет, он убьет меня, Ирис не отвечает, Гарибальди ничего не знает, Филипп хохочет в пабе в обществе Дотти Дулиттл. Я умру, никому не нужная. Девочки мои, девочки…
Крупные слезы покатились по ее щекам. Она смахнула их рукой. Дю Геклен прислушался, подняв одно ухо, — услышал что-то? Потом залаял.
— Замолчи, замолчи сейчас же! Он нас услышит!
Он лаял все сильнее, кружа по гостиной, поднялся на задние лапы у окна, оперся передними на стекло.
— Перестань! Он увидит!
Она рискнула бросить взгляд на улицу, заметила машину, которая ехала по аллее с зажженными фарами. Свет фар озарил комнату, она распласталась по полу. Боже мой! Боже мой! Папа, спаси меня, спаси, я не хочу страдать, сделай так, чтобы он убил меня сразу, сделай так, чтобы не было больно, я боюсь, ох! Я боюсь…
Дю Геклен лаял, сопел, налетал в темноте на мебель в гостиной. Жозефина наконец нашла в себе смелость встать и поискать, где бы спрятаться. Подумала про прачечную. Там крепкая, тяжелая дверь, закрывается на замок. Лишь бы еще продержалась батарейка. Я позвоню Гортензии. Она что-нибудь придумает. Она никогда не впадает в панику, она скажет: «Мам, не волнуйся, я разберусь, вызову полицию, в таких случаях главное — не показывать, что боишься, попробуй спрятаться, а если не получится, заговори с ним, отвлеки, постарайся разговаривать с ним совершенно спокойно, задержи его, пока полиция не подъедет». Она позвонит Гортензии.
Она на четвереньках поползла к прачечной. Дю Геклен стоял у входной двери, опустив голову, выставив вперед плечи, словно готовясь сцепиться с противником. Она прошептала: «Пошли, смываемся!» — но он остался на страже, грозный, ощерившийся, взъерошенный.
Она услышала шаги: кто-то шел к дому по усыпанной гравием дорожке. Шаги были тяжелые. Шел человек, уверенный в себе. Шел, как хозяин. Человек подошел к двери. Она услышала, как в двери повернулся ключ. Один оборот, два оборота, три оборота…
Сильный голос спросил:
— Есть тут кто-нибудь?
Это был Филипп.
Утром Ирис проснулась и обнаружила, что он стоит в ногах кровати. Она так и подскочила: о ужас, не услышала будильник! Она даже не подняла руки, чтобы защититься от удара хлыстом, который должен был явиться неминуемой расплатой за ее провинность. Она лишь опустила глаза и ждала.
Он не ударил. Не указал ей на отступление от правила. Он обошел вокруг кровати, согнул хлыст, рассек им воздух и объявил:
— Сегодня вы не будете есть. Я положил два ломтика ветчины и рис на столе, но вы не имеете права их трогать. Кусочки очень хороши. Это дорогая, вкусная ветчина, толстые белые душистые ломти, они чудесно пахнут, это будет для вас искушением. Вы проведете весь день на стуле, читая молитвенник, а вечером я приду и проверю, на месте ли еда. Вы грязны. Нас ждет работа более серьезная, чем я ожидал. Нужно вычистить вас до дна, чтобы вы стали достойной новобрачной.
Он сделал несколько шагов. Приподнял хлыстом край простыни, чтобы убедиться, что под кроватью чисто. Результат его удовлетворил.
— Вы, безусловно, будете заниматься хозяйством, как и каждое утро, но есть вы не будете. Вы имеете право на два стакана воды. Я поставил их на стол. Вы будете пить их и представлять прозрачный источник, очищающий вас. Затем, когда вы управитесь с хозяйством, вы вновь сядете на стул и будете ждать меня. Ясно?