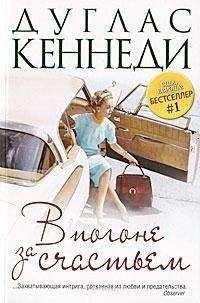Это потому, что французы ничего не понимают в еде.
Я подняла с пола коробку с письмами Джека. Мы вышли из квартиры. На улице я зашвырнула коробку в фургон мусоровоза, который как раз освобождал баки возле нашего дома. В глазах Джоэла промелькнуло неодобрение, но он промолчал. Когда коробка исчезла в мусорных недрах, я мысленно спросила себя: зачем ты это сделала? Но заставила совесть замолчать, взяла Джоэла под руку и сказала:
Пойдем поедим.
«Гитлитц» не изменился за годы моего отсутствия. Точно так же, как и Верхний Вест-Сайд. Я вернулась в манхэттенскую жизнь с легкостью. Мучительная адаптация, которая меня пугала, так и не началась. Я навещала старых друзей. Ходила на бродвейские шоу, по пятницам на дневные концерты в филармонию, иногда посещала Метрополитен-опера. Я снова стала завсегдатаем музеев Метрополитен и Фрика, публичной библиотеки на 42-й улице, кинотеатров по соседству с моим домом. И раз в две недели сочиняла «Письмо из Нью-Йорка», которое отправляла — через «Вестерн Юнион» — в парижский офис «Геральд трибюн». Эту колонку подарил мне на прощание Морт Гудман:
Если я не могу уговорить тебя остаться и писать для меня в Париже, придется заставить тебя писать для меня из Нью-Йорка.
Так что теперь я была зарубежным корреспондентом. Только страна, о которой я писала, была моей родиной.
«За те четыре года, что я слонялась по рю Кассет (написала я в колонке за 20 марта 1956 года), с американцами произошла удивительная метаморфоза: после долгих лет Великой депрессии и режима строгой экономии в военное время они вдруг проснулись и обнаружили, что живут в обществе изобилия. И впервые со времен бурных двадцатых их охватила потребительская лихорадка. Только, в отличие от гедонистических двадцатых, в нынешнюю, эйзенхауэровскую, эпоху самое главное — домашний очаг: островок счастья, изобилия, набожности, с двумя машинами в гараж, новеньким холодильником „Амана" на кухне, телевизором „Филко" в гостиной, подпиской на „Ридерз дайджест" и молитвой перед „телеужином"[76]. Что? Вы, экспаты, не слышали о „телеужине"? Что ж, пока вы высмеивали примитивную американскую кухню…»
Из-за этой колонки (которую я написала, пребывая в менкенианских[77] настроениях) мой телефон разрывался от звонков несколько дней подряд. Дело в том, что она задела чувства парижского корреспондента крайне консервативной газеты «Сан-Франциско кроникл», и он обильно цитировал ее в своей статье об антиамериканском мусоре, который печатается в столь респектабельном издании, как «Пэрис геральд трибюн». Не успела я опомниться, как по мне снова прошелся Уолтер Винчелл:
«Новость дня: Сара Смайт, некогда упражнявшаяся в остроумии на страницах журнала „Суббота/Воскресенье" и в недавнем прошлом профессиональный „американец в Париже", снова в „Большом яблоке"… и опять будоражит публику. Как донесла разведка, она стряпает колонку, где высмеивает Наш Образ Жизни на потеху озлобленным экспатам, что предпочитают торчать за океаном. Мисс Смайт на заметку: если вам здесь не нравится, почему бы не перебраться в Москву?»
Четыре года назад после такого пасквиля Винчелла можно было и не мечтать о продолжении журналистской карьеры. Как же изменились времена — сейчас мне звонили редакторы многих изданий, знакомые еще с конца сороковых — начала пятидесятых, наперебой приглашая на ланч, чтобы обсудить перспективы дальнейшей работы.
Но если верить Винчеллу, — сказала я Имоджин Вудс, моему бывшему редактору в «Субботе/Воскресенье» (теперь она была вторым лицом в журнале «Харперз»), — я все та же Эмма Гольдман[78] с 77-й улицы.
Дорогая, — ответила Имоджин, ковыряясь в кобб-салате и одновременно показывая официанту, чтобы принесли еще выпивки, — Уолтер Винчелл — вчерашний день. На самом деле ты должна радоваться, что он снова сделал выпад в твой адрес. Потому что я, по крайней мере, узнала, что ты вернулась в Нью-Йорк.
Я удивилась твоему звонку, — осторожно вставила я.
Я очень рада, что ты согласилась встретиться. Потому что… я буду предельно честна… мне было стыдно за себя, когда журнал так обошелся с тобой. Мне нужно было биться за тебя. Или настоять на том, чтобы кто-то другой принес тебе неприятную новость. Но мне было страшно. Я боялась потерять свою жалкую работенку. И я ненавидела себя за эту трусость. Но все равно продолжала работать на них. И это навсегда останется тяжким грузом на моей совести.
Не надо винить себя.
Все равно буду. Когда я прочитала о смерти твоего брата…
Я перебила ее, прежде чем она успела сказать еще хоть слово.
Всё, мы сейчас здесь. И мы общаемся. Остальное не имеет значения.
К концу этого ланча я была новым кинокритиком журнала «Харперз». А дома продолжал трезвонить телефон. Литературный редактор «Нью-Йорк таймс» предложил мне работу рецензента. Так же, как и его коллега из «Нью рипаблик». Выпускающий редактор «Космополитен» предложила встретиться за ланчем, ей не терпелось реанимировать мою колонку «Будни» — «только скроенную под запросы утонченных женщин пятидесятых».
Я согласилась на рецензирование. Отклонила предложение «Космополитен», сославшись на то, что мои «Будни» — это все-таки пройденный этап. Но когда редактор спросила, не заинтересует ли меня сверхвыгодный полугодовой контракт на колонку «психотерапевта», я согласилась не раздумывая. Хотя и была, наверное, самой неподходящей кандидатурой, чтобы раздавать разумные советы.
Редактор «Космополитен», Элисон Финни, пригласила меня на ланч в «Сторк клаб». Во время ланча в зал вошел Винчелл. «Сторк клаб» был его излюбленным пристанищем, его «выездным офисом» — и хотя сегодня весь Нью-Йорк знал, что его могуществу приходит конец (как и говорила Имоджин), он по-прежнему занимал почетный столик в углу, оборудованный персональным телефоном. Элисон подтолкнула меня и сказала: «Вон пришел твой самый большой поклонник». Я пожала плечами. Мы закончили с едой. Элисон извинилась и скрылась в дамской комнате. Не задумываясь о том, что делаю, я вдруг встала и направилась к столику Винчелла. Он правил какую-то рукопись, так что не заметил, как я подошла.
Мистер Винчелл? — весело произнесла я.
Он поднял голову и скользнул взглядом по моему лицу. Когда стало очевидно, что я не достойна его внимания, он снова взялся за карандаш и уткнулся в рукопись.
Я вас знаю, юная леди? — спросил он с оттенком нетерпения.
Не сомневаюсь, — сказала я. — Но еще лучше вы знаете моего брата.