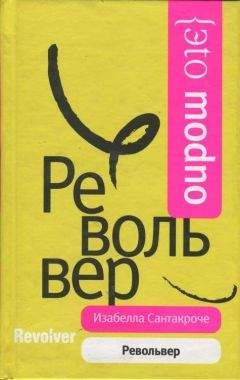Дора после просмотра не сказала ничего. Мы молча шли вдоль решетки парка Монсо под луной. Вдруг тело ее привиделось мне бесконечно прекрасным и драгоценным, черным и синим, негативом с негатива, суммированным опытом, искусным и добрым, избегнувшим вселенской развращенности, которой мы не можем и не сможем противиться никогда и никак, потому что дело даже не в ней, а в самом потоке времени. В тот раз я любил ее с какой-то даже восхищенной нежностью, такой, какую чувствуешь, причем, так редко, когда встречаешь кого-то очень хорошего. Такое бывает. Как жаль, что большинство людей не испытывали, хотя бы раз в жизни, этого ощущения. «Кого-то очень хорошего, действительно хорошего, в этом-то мире? Ну, ну…» И в данном случае совершенно не при чем то, что обычно принято называть Хорошим и Плохим. Хорошее, растаптываемое Плохим до бесконечности, но все равно оставшееся Хорошим. Ход сделан, мы спаслись после катастрофы, нам удалось выбраться. Я шел слева от нее, мы шагали, как всегда, в ногу, я наклонился поцеловать ее в ухо. И услышал свой собственный голос, пожелавший, чтобы она не умирала никогда.
В тот вечер Дора захотела лечь спать сразу же, я остался в библиотеке, которую она велела переоборудовать специально для меня. Все книги стояли там, черные, красные, синие, зеленые переплеты. Я машинально раскрыл старого Сирано (в Амстердаме, на Биржевом мосту, напротив Кельнского банка, 1710), тотчас же мне бросилась в глаза одна фраза:
«Внезапная радость завладела моей душой, радость влечет за собой надежду, надежда — потаенный свет, которым разум мой оказался ослеплен».
Существует, вне всякого сомнения, бог сочинительства и чтения, бог молчаливый, близкий, тайный; неутомимый бог чернил и дыхания, проходящий сквозь стены, заросли, воск, фильтры, закодированный бог биологических клеток. Перевалило заполночь, и то же «событие», что и тогда, в той моей сумрачной студенческой комнатке, повторяется вновь. Библиотека медленно вращается вокруг своей оси, пространство расступается, а вместе с ним и время всех этих томов раскрывается каждое на своей знаменательной дате, соединяясь с другими на том же сгибе, перемешиваясь в одном тигле. Я чувствую, как сваленные вместе книги корчатся в огне, словно саламандры, создавая все вместе — пылающие угли и пепел — единую историю, наполненную шумом, исступлением, но еще и удовольствием, и весельем. «Внезапная радость завладела моей душой…» Ну да, конечно, при условии, что у меня имеется душа. «Душа моя, мучась, исполни обет: вопреки ночи да будет свет…» А радость влечет за собой надежду, а надежда — потаенный свет, которым разум мой оказался ослеплен. Да, да, именно, ослепленный разум, какой заголовок. Я продолжаю следовать за Рембо, который отныне повествует в одиночестве: «Нет спасенья, ничья вина, знанье, терпенье не помогут нам; завтра не настанет, угли остынут, но сберечь спеши жар души…» Или вот еще: «Я становлюсь волшебной оперой: я вижу, что все живое обречено стремиться к счастью; действие это не жизнь, это способ растрачивать силы, своего рода невроз. Любая мораль — уязвимость разума…»
Но вот снова вступает Сирано: «Мы находимся в той части, которая состоит из ничего…» И еще: «А не состоит ли весь мир из ничего?» И еще: «Если как следует проникнуть в материю, вы поймете, что она представляет собой единицу, которая, словно гениальная актриса, играет здесь роли всех персонажей, лишь каждый раз облачаясь в другой костюм…»
Эти строки Рембо — из «Сезона в аду», главы, словно по иронии судьбы озаглавленной «Алхимия слова». В его черновиках, как раз после очень знаменитого стихотворения «Вечность» (которое знают все и в то же время не знает никто), он написал: «От радости я становлюсь волшебной оперой».
Вот эта рукопись перед моими глазами. Выглядит она довольно странно, вот так:
«Наконец мой божественный дух……………………
из Лондона или из Пекина или Бера ………..
которая (зачеркнуто я смеюсь над)………………..
от народного веселья. (Вот) …………..
пекло (неразборчиво) …………………………
Я хотел бы меловую пустошь ……………………»
И еще один черновик заинтересовал меня:
«Я немного путешествовал. Я поехал на север: я (вспоминается) закрыл свой разум. Мне захотелось вспомнить там все рыцарские, пастушеские ароматы, дикие родники. Я любил море (человечек земля основы) магическое кольцо в светящейся (освещенной) воде как если бы она должна была отмыть меня от (отмыть меня от заблуждений) позора».
Здесь мне захотелось подчеркнуть «закрыл свой разум».
И вот я засыпаю прямо здесь, на диване, мне снится сон. Я иду по песчаной аллее старого особняка семнадцатого века, на треугольном фронтоне которого, освещенном факелами (потому что ночь), выделяется странная надпись:
ЕГО СИЯНИЕ ЗАТМЕВАЕТ ЕГО.
ПРИ СВЕТЕ ДНЯ ОН ПРОПАДАЕТ.
ЕГО ВИДНО ОТОВСЮДУ,
НИКТО НЕ ВИДИТ ЕГО.
Я тем более удивлен, что сотни раз проходил по этой улице, не замечая под номером 10 этой странной постройки, которая должна бы бросаться в глаза внимательному прохожему. Я приближаюсь, фасад освещен, слышен шум, наверное, там какой-то праздник. Музыканты и музыкантши в костюмах того времени, проходя мимо, задевают меня, но не замечают. Здесь всего понемногу: скрипки, лютни, виолы, барабаны, трубы. Молодая женщина, красивая, темноволосая, нервно поправляет черную косынку вокруг шеи: без сомнения, сейчас она должна петь. Внутри и снаружи много цветов, они кажутся мне до странности крупными. Розы с двухметровым — по меньшей мере — стеблем, такого же размера гладиолусы, огромные охапки пионов. Теперь я поднимаюсь по каменной лестнице, в то время как музыка обрушивается громовым каскадом, мое тело знает, куда идти, и меня это не особенно удивляет. Один из музыкантов, стоя внизу, громко объявляет название следующего отрывка: «сердцевина вещей». Певица принимается за свои вокализы. До меня доносятся слова «страшные крики», «ход сделан», «барабаны, трубы», «пусть в нас зажжется любовь», от ее голоса вибрируют деревянные перекрестья окон и картины на стенах. Наконец, я вхожу в большую комнату, от пола до потолка заставленную книгами, и какой-то человечек, высокий, худой, с седыми волосами и молодым лицом, в окружении свитков и ваз, учтиво, не говоря ни слова, протягивает мне маленькую китайскую коробочку, наполненную каким-то красным порошком. Похоже на шкатулку с драгоценностями. Я понимаю, что должен проглотить немного этого порошка (у него горьковатый привкус), прежде чем бросить, наконец, — и в этом смысл всего — «взгляд на все это». И будет вспышка, будет покой. Человечек исчез, не забыв оставить мне записку, на которой я читаю: «Искусство музыки». Я складываю ее. Речь идет о катрене, озаглавленном «Ария в скрипичном ключе»: