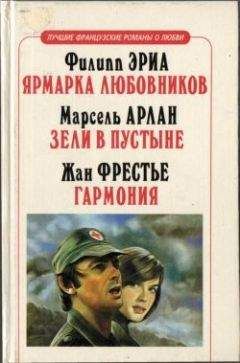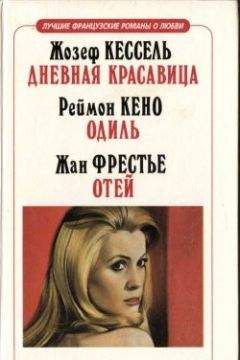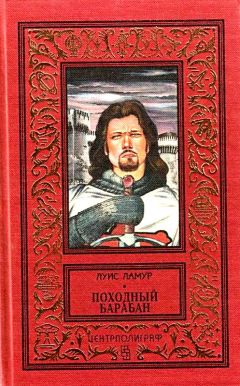– И вдруг, – сказал Давид, – наш ассистент, до этого не проронивший ни слова, бросается к малышу, хватает его за ноги и, вытянув руки, начинает трясти его вниз головой. Шарик тут же падает на паркет. Получилось, что вес его, который нас так озадачивал, в конце концов выручил нас.
– Поучительна история про Христофора Колумба и куриное яйцо, – прокомментировал услышанное Полиак. – Нужно все время вспоминать ее. Как и находку старого искусника Омбреданна, который, вместо того чтобы разрезать кишку у малышей, проглотивших булавки – из тех, что совершенно неоправданно называются почему-то безопасными, закрывал их через кишечную стенку, предоставляя им возможность следовать дальше, прямо в горшок. Это и есть тот здравый смысл, которого нам все больше будет не хватать по мере того, как техника будет развиваться дальше, принося с собой новые, пока никем не осознаваемые пакости. Через десять лет станут делать столько бесполезных рентгенов, что люди начнут сплошь и рядом болеть новыми формами рака, в которых никто не сможет разобраться.
Костелло осторожно намекнул на пассеизм.
– Вы совершенно не правы, мой дорогой, – ответил Полиак. – Моя настоящая специальность – чтение по звездам.
Сидя на первой койке, Вальтер положил руку на плечо Лил, как бы вспомнив о былом своем влечении, которое время сгладило столь же эффективно, как если бы оно было удовлетворено. Он напомнил своей подруге про их первую встречу в Т., тыловом городе, где они вдвоем получили нелепое указание в случае воздушного налета спускать в госпитальный подвал всех раненых и целый день безуспешно пытались его выполнять, подчиняясь ритму беспрерывно следовавших одна за другой воздушных тревог. После чего они по взаимному согласию приняли решение не повиноваться этому приказу, чтобы не тормошить и тем самым не убивать людей, которые и без того могли умереть на своих койках. И тогда Лилиан, дабы скрасить их сознательное бездействие, решила, развеселившись, что им нужно выпить все имевшиеся в шкафах санчасти запасы микстуры Паркера – лекарства с большим содержанием спирта, которое ложечками дают легочникам.
В общем, вполне профессиональный способ как следует набраться.
– Я надеялась таким манером хоть немного тебя растормошить. А то ты ходил с такой надутой физиономией.
– Наверное, ты мне слишком нравилась.
– О, это-то, скажу не хвалясь, я сразу поняла. И почувствовала, что отныне моим компаньоном будет весьма закомплексованный противный пуританин.
– Еще бы! Медсестра, к тому же генеральская дочка, пьющая предназначенную для больных микстуру, – тут действительно было от чего растормошиться!
– Потом ты все-таки немного изменился. По крайней мере, стал любезнее.
– Что ж ты хочешь! Со временем настоящий джентльмен приобретает манеры.
Он рассмеялся и еще крепче обнял Лил за плечи, а поскольку как раз в этот момент мимо первой койки проходила Гармония, снова направляясь к своим прооперированным пациентам, у него в голове пронеслась мысль, что вот сейчас он так же глупо, как когда-то с Лилиан, ведет себя по отношению к ней, наказывая себя за достаточно банальное желание. Он убрал руку с плеча молодой женщины.
– Усталость сводит меня с ума, – довольно неожиданно сказал он. – Тебя нет? В чем истина?
Она весело рассмеялась.
– Будет тебе сочинять истории! Ты же знаешь, что мы все немного сумасшедшие. А что касается истины, то наилучшая истина та, которую сам себе придумываешь.
Давид встал. – Ладно, давайте все же заканчивать. За работу!
– Дети мои, не падайте духом, – сказал Полиак.
– Мы все пишем новую маленькую страничку в историю военной хирургии, самую благородную и самую абсурдную в мире.
Лилиан поцеловала Вальтера.
– Поменьше волнуйся. Пока. Он остался на несколько минут один в своем кабинете, собрал брошенные там и сям окурки в старую консервную банку, смел крошки хлеба со стола, собрал стаканы в стопку, разложил перед собой три последние истории болезни. Гармония на другом конце палатки опять делала попытки утолить с помощью нелепых заменителей нестерпимую жажду своего самого тяжелого больного. Джейн спала глубоким сном на пятой койке. Вальтер на ходу проверил расход газа на кислородной установке раненого в грудь, казавшегося в этот момент спокойным.
– Ты не хочешь прилечь на минутку? – спросил он Гармонию.
– Пожалуй.
Он смотрел на нее сверху вниз. Она держалась очень прямо, но было заметно, как подрагивают ее хрупкие ноги. Он взял пару носилок и положил их у входа в кабинет, наискосок от первой койки. Сам лег на те, что были к ней ближе, головой к центральному проходу, чтобы получше видеть ту часть палатки, где находились трое раненых. У него тут же возникло восхитительное чувство облегчения, невероятное ощущение покоя в ногах. "Только бы не заснуть", – подумал он. Подошла Гармония и прилегла на соседние носилки. От Вальтера ее отделяли каких-нибудь десять сантиметров.
– Боже мой, как же хорошо, – сказала она. – Такое впечатление, что мне это снится.
Лежа на боку лицом друг к другу, они смотрели друг на друга странными, как бы обесцвеченными и лишенными света глазами, глазами людей, находящихся под наркозом.
– Если я прикоснусь к тебе хотя бы одним пальцем, знаешь что будет?
– Знаю. Ну так прикоснись же ко мне пальцем, прошу тебя.
– Нас могут увидеть.
– Ну и что! Знаешь, что я тебе скажу? Да будь эта палата битком набита людьми, я все равно стала бы заниматься с тобой любовью – так мне хочется. – Она улыбнулась. – И может быть, публика в конце нам поаплодировала бы – настолько это было бы чудесно.
– Несомненно. Но только ты грезишь. Не надо. Пока не надо.
– Это просто ужасно.
– Я знаю. Когда усталость достигает крайних пределов, то «это» пробуждается в нас со страшной силой.
– Ну и какое средство против этого?
– Попозже. А сейчас погрузись в сон, закрой глаза, представь себе, что я сейчас в тебе или ты во мне, что одно и то же.
Гармония поджала к животу колени, закрыла глаза и заснула так быстро, что у Вальтера возникло ощущение, словно он увидел, как в колодец упал камень. Она спала с приоткрытым ртом и слегка посапывала. Он провел пальцем по ее бровям, как бы разглаживая их, но она не шевельнулась. Он зажег сигарету и лег на спину. На душе у него было радостно, он чувствовал себя победителем. "Какой смысл брать то, что тебе дают? – размышлял он. – Есть в этом какая-то банальность, хотя и прелестная, но все-таки банальность, формальная в своей обыденности". И тут же сам удивился своим мыслям. Слово «любовь», даже если он и любил, ему не нравилось из-за той неизбежной в конце концов зависимости, которую оно влекло за собой, а что может быть более ужасного, более похожего на смерть, чем ставшее привычным наслаждение? Он относился с недоверием к удовольствию, потому что то, что не может длиться долго, не имеет ценности. Ему казалось, что, дабы привязать людей друг к другу, нужно было бы изобрести некое иное благо, лежащее как раз где-то на полпути между нежностью и удовольствием. А может быть, именно этим благом он и наслаждался сейчас, когда, повернувшись слегка набок, смотрел на Гармонию, более чем прекрасную, восхитительную; принадлежащую и вместе с тем еще не принадлежащую ему; более чем суженую; уже отдавшуюся и еще не взятую. Он не мог придумать ничего нового. В тридцатилетнем возрасте уже доподлинно известно, что окончательного решения у тысячу и еще один раз обсужденной проблемы нет. А вот глядеть на то, что тебе принадлежит и что ты любишь, можно бесконечно. "Я могу, – размышлял он, – делать все: разбудить ее, раздеть, взять, и мне поможет то, что она испытывает ко мне огромное влечение, активное и нежное, здесь мы с ней на равных. Я не оказался бы тут совратителем. Это было бы не украдкой полученное удовольствие, а заполнение вакуума, который ждет от меня хоть на несколько дней абсолютного счастья, вакуума, который, будучи заполненным, станет в свою очередь дарить счастье. Однако в этой области созидание является одновременно разрушением. Нет ничего лучше, чем желание и эта дружба, которые сплотили нас в едином усилии, потому что мы вместе действовали и вместе пережили один и тот же кошмар. Сейчас мы – проклятые души, обитающие в аду и встретившиеся на углу лабиринта. Это как раз и есть встреча людей, всю жизнь стремившихся встретиться, и такое не может больше повториться. Это, значит, был я, а это, значит, была ты. А потом это будем уже мы, и мы будем вспоминать испытанные нами вместе беды, чтобы придать нашему воссоединению особую остроту и яркость".