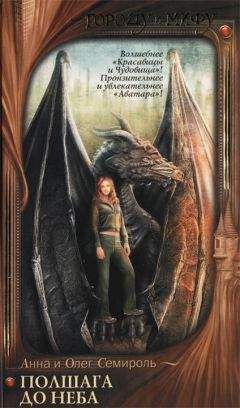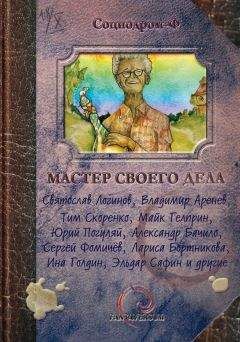— Да, Крапивин — это наркотик, — вздохнул Иван. — Когда я его читал, то верил, что рано или поздно у меня все будет так же. Будут приключения, каравеллы, верные друзья… А потом, в один прекрасный день, я открыл книгу и вдруг обнаружил, что ее герой младше меня на три года. Понимаешь, Саш? Это было страшно. Тогда я понял, что в моей жизни ничего такого уже не будет. Ничего. Ни путешествий, ни морских приключений, ни полетов. А будет все так же, как у моих родителей. Авансы, долги, кредиты и прочие «сникерсы». Скажи, Саш, почему некоторым людям везет и они находят какой-то смысл, чтобы жить? А? Они что, кока-колы больше пьют?
— А чего тебе хочется? — спросила я. Тихо спросила, почти надеясь, что он не ответит.
— Чего-нибудь другого. — Он поморщился и вытащил новую сигарету. — Знаешь, когда любимый человек разговаривает с тобой по телефону таким тоном, словно ты у него денег взаймы просишь, тут уже не до барства.
Он вдруг посмотрел прямо на меня, и я увидела в его неприкрытых стеклами глазах такую тоску, что сжала кулак и ногтями впилась в свою собственную ладонь, чтобы не завыть.
— Саша, — сказал он, — почему мне такая шутовская роль досталась? Мирить рассорившихся влюбленных… Почему девушки ко мне прибегают как к запасному аэродрому? Я что, не человек?
Он смотрел так, что у меня душа выворачивалась наизнанку. Я знала, о чем он. Только не подозревала, что с новой девушкой приключилась та же история. В третий раз за свою жизнь незадачливый Иван становился «запасным аэродромом». Девушки отдыхали, чинили свои потрепанные жизнью крылышки и улетали дальше. А бедняга оставался с искореженной душой. У меня были свои соображения на счет причин такого невезения, но я не стала делиться ими с Иваном. Вместо этого взяла из его пальцев зажженную сигарету, затянулась и сказала:
— Дурак ты, Ваня. Большой мальчик, а ни черта не понимаешь в женщинах. Сам услужливо подставляешь плечо, когда бабе просто выплакаться некуда. А тех, кто по тебе сохнет, пропускаешь мимо. Правильно, они-то плачут дома, в подушку, а не на виду у всего народа.
— Это ты кого имеешь в виду? — подозрительно спросил Иван, забирая у меня сигарету.
Не знаю, на каком рефлексе, но язык сам провернул это дело, без участия моего закостеневшего мозга.
— Хотя бы себя, Ваня, — сказал мой язык, — я, между прочим, с десятого класса в тебя влюблена была. По уши.
— Ты серьезно? — Мое известие было для его пьяной головы как залп шампанского.
— Конечно, серьезно. — Я снова взяла у него сигарету. Вообще-то всегда терпеть не могла «Пэлл-Мэлл», но курить от одной сигареты — есть в этом что-то очень интимное, сближающие. Брудершафт своего рода.
— А что же ты молчала? — спросил он.
Его покрасневшие глаза так и вцепились в меня взглядом.
— В десятом классе я еще была ходячей кучей комплексов. А в одиннадцатом у тебя уже появилась Настя.
Да, я хорошо помнила, что именно Настя Аверченкова стала его первой трагедией. Кстати, в этот момент за нашими спинами и пыльным балконным стеклом она танцевала некое подобие танго, притиснувшись своим роскошным телом к Матвею. Лицо класса, первая красавица. Ее отношения с Иваном завязались после того, как она рассорилась со своим парнем и с горя перепила на собственном дне рождения. Иван держал Настю за талию над ванной, когда ее организм освобождался от всей съеденной за столом пищи. А потом он вытирал ей салфетками лицо и молча слушал все ее пьяные откровения. Расстались они через полгода, когда прежний Настин кавалер, насытившись свободой, решил вернуть все на круги своя. Он был старше Ивана и, честно говоря, обаятельнее.
Иван поверил мне. Он стоял, совершенно ошеломленный этой новостью, и смотрел покрасневшими глазами то на меня, то в черную пустоту под балконом. Когда сигарета догорела до фильтра, он достал следующую. Ее мы тоже курили на двоих, словно нельзя было зажечь две сигареты одновременно. Мы больше ничего не говорили до того момента, как дверь на балкон распахнулась и в нашу ночь ввалились еще три человека, желающих вдохнуть никотина.
Мы с Иваном не сговариваясь вернулись в квартиру. В коридоре между комнатой и столовой он внезапно взял мою руку и прижался к ней лицом.
— Какая у тебя нежная кожа, — пробормотал он, — а я и не знал.
Матвеевская вечеринка удалась. Кажется, народ действительно соскучился, если не друг по другу, то по возможности почувствовать себя моложе. Я ничуть не иронизирую: когда ты переваливаешь двадцатипятилетний рубеж и, обращаясь к тебе, все чаще употребляют слово «женщина», а не «девушка», каждый прожитый год чувствуется особенно остро. Может, потом мы привыкнем, но пока взрослеть для нас — это больно. Особенно, когда видишь, что вокруг тебя ничего не меняется: меняется только твое отражение в зеркале. А мир остается таким же беспощадно-беспомощным, вечно гибнущим и требующим спасения, призывающим очередные поколения наивных сопляков, которые еще находят удовольствие в том, чтобы ночевать на баррикадах. Все равно ради чего.
Наверное, сожаление об этом периоде жизни и заставляет бывших одноклассников-однокурсников собираться на юбилеях, хотя им, по сути, и нечего сказать друг другу. О чем мне говорить, например, с Настей Аверченковой, пардон — Василевской, чей цепкий глаз сразу взвесил стоимость моей любимой, но безнадежно дешевой футболки? Или с Геной Мокрецким, клянущим в подпитии украинцев и евреев. Первых — за то, что сбивают цены на чернорабочую силу. Вторых — потому что владельцами всех трех контор, где Гене довелось работать, были евреи. Об их поразительной и нездоровой — с точки зрения пьяного русского — пунктуальности Гена рассказывал краснощекой, как баба с русского лубка, Наташе Коваленко.
Наташа, несмотря на то что сама была порядком пьяна, умудрилась испортить мне остаток вечера настолько виртуозно, насколько это можно сделать только ненамеренно. Когда основной пыл вечеринки уже угас, от еды остались только два с половиной ломтя мерзкой грибной пиццы, а под столом выстроилась бутылочная батарея, у меня зародилась надежда, что через полчаса народ начнет постепенно расползаться по домам. И тут Наташа спохватилась:
— Мы забыли про гитару!
На сцене появилась гитара и была торжественно вручена большегубому красавчику Славе Нечаеву — нынешнему банкиру, который лет пять подряд, начиная с девятого класса, пел в церковном хоре. Народ оживился и начал подтягиваться из углов к креслу, где Слава потными руками нежил гитару.
Слегка заматеревший, но не утративший любви к публичности, он поправил без нужды свой длинный светлый чуб и начал перебирать струны, словно вспоминая мелодию. Это представление было всем хорошо знакомо, и мы не мешали Славе насладиться сполна своей ролью штатного менестреля. За моей спиной тяжело дышал Иван, и я почти пожалела, что сказала ему про свою мнимую влюбленность. Мухину это ничем не поможет, а мне может здорово осложнить жизнь.
Я поискала глазами Матвея, чтобы предупредить о своем намерении уйти. Однако не обнаружила ни его, ни Насти Аверченковой.
— «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене». — Слава, как обычно, начал со своей любимой «наутиловщины».
Да, в мире вокруг нас ничего не менялось.
С этой мыслью я выбралась из-за стола и пошла на кухню с надеждой, что Матвей там. Вместо него в кухонной темноте я обнаружила Лариску. Она стояла у окна, уставившись в ночь, и казалась плоской, как бумажная кукла.
— Ты на самом деле жутко похудела, — сказала я, шагнув из светлой столовой в темноту — из теплого света лампы под бумажным абажуром в свет городской наэлектризованной ночи.
Лариса обернулась, но я не разглядела выражения ее лица. Только видела, как блестят огромные глазищи. И заметила, что она забрала свои волосы в хвостик на затылке, сразу став похожей на девчонку-сорванца.
— Жизнь такая, что не потолстеешь. — В ее голосе прозвучал горький смешок.
Я подошла и встала рядом с холодным незашторенным окном. Терпеть не могу такие голые окна.