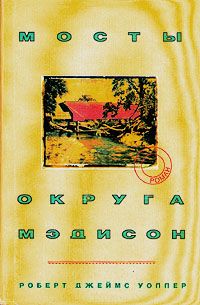Ознакомительная версия.
Сосед вернулся в номер около двух часов ночи и до половины четвертого буйно болтал. От него страшно несло перегаром. Я глотал с трудом и думал о том, что вернусь совершенно больным.
Я все-таки отправился на прогулку по городу, автобус привез нас в центр, и я честно топтался по крошечной центральной площади, разглядывал старые дома, на каждом из которых под крышей красовалось имя некогда торговавшего на первом этаже купца, некогда – много веков назад. Я пошатался по прилегающим к площади улицам, забитым многоголосым, многоязычным туристическим воркованием, поизумлялся неизменному составу анемично ползающих туристических групп: вечный рыжий верзила изможденного вида в коротковатых болтающихся штанах, толстяк коротышка в яркой куртке и кроссовках «Reebok», старушки с седым перманентом и птичьим профилем, несколько разодетых девах, толстозадых и полногрудых, влюбленная парочка, дебил в коляске, пускающий слюни…
Я неизвестно почему забрел в лавочку, торгующую охотничьим снаряжением. Хозяин магазинчика – прокуренный лысеющий мужчина лет пятидесяти с желтыми редкими зубами и сморщенным пористым лицом – хрипло расхваливал необъятных размеров американцу нож для освежевания кабана. Тут же крутился его сын, парень лет двадцати, длинный и тощий, как церковная свеча, в ковбойских кирпичных сапогах, длинные пальцы все в кольцах со змеями и черепами, на шее черный платок. Вначале он сидел на высоком табурете и любовался тем, как солнечный луч играл с лакированным носком его сапога, но затем словно змея его ужалила: в лавочку вошел какой-то с виду то ли поляк, то ли венгр и на ломанном французском спросил свисток, «имитирующий зов утиной женской особи». Парень вывалил на стеклянный прилавок гору свистков и принялся по очереди дудеть в них, наполняя магазин звуками птичьего двора. Когда он свистел, его впалые щеки раздувались необычайно, а лицо становилось багровым от усилий.
Я вышел из магазина и побрел наугад по залитым солнцем улочкам, я то и дело с усилием сглатывал, чтобы проверить, не уменьшилась ли боль, горло казалось обсыпанным крошечными пылающими угольками, и когда я глотал, они, вместо того, чтобы гаснуть, разгорались еще сильнее. Не успел я подумать о том, чтобы купить какое-нибудь лекарство, как аптека немедленно поприветствовала меня развеселым колокольцем, приделанным к входной двери, я оказался в белом сияющем чистотой раю, сразу в раю, а не в каком не чистилище, с развешанными повсюду, словно елочные украшения, восхитительными коробками с поистине чудодейственными средствами. За мелодичным перезвоном последовал хозяин аптеки, средних лет, пышущий уравновешенностью бельгиец с золотыми очками на поблескивающем носу, в белом халате (ну просто чистой воды престарелый откормленный ангелок!), из-под которого ослепляет белая рубашка и умиротворяет дорогой, очень благородной расцветки галстук, буквально шепчущий каждому клиенту своим бордовым баритоном: «Вы правильно сделали, что пришли к нам, вам здесь обязательно помогут».
Аптекарь немедленно предложил мне несколько разновидностей чудодейственных пастилок от фарингитов, тонзиллитов, аллергических отеков, ангин разной степени тяжести и вредоносности для всего организма и отдельных его частей. Конечно, по его мнению, я должен был отдать предпочтение самой дорогостоящей, поскольку в ней сразу все от всего и навечно. Повертев коробку в руках, я пришел в ужас. С обратной стороны была помещена фотография обезображенного отеками, нарывами, налетами и еще чем-то даже мне непонятным горла, асимметричного, истерзанного болью, не оставляющего его обладателю никакой надежды на какие-либо перемены к лучшему. На лицевой стороне упаковки не без гордости красовалось совершенно иное, преображенное горло, ровненькое, розовенькое, гладенькое, словно только что появившееся на свет. Казалось, что оно улыбается своему потенциальному покупателю не только изумительными гландами, но и обворожительным язычком, против идеального состояния которого, конечно же, ни один страдающий от ее величества Ангины устоять не сможет. Я сглотнул, и мне показалось, что угольки превратились в мелкие стеклянные осколки, которые сильно ранили, наполняя рот вкусом жирной рыжей ржавчины. Я купил пастилки без фотографии и, воспользовавшись тем, что аптекарь, откликнувшись на телефонный звонок, повернулся ко мне спиной и быстро заговорил о чем-то по-фламандски, разинул рот перед круглым – для примерки очков – зеркалом и впился взглядом в свое собственной горло. Кажется, только что увиденное угнетающее зрелище на упаковке было не фотографией, а переводной картинкой, во всяком случае, то, что было на глянцеватом белом картоне, беспардонно переползло ко мне в глотку.
В автобус я вернулся мокрым, усталым, изнемогающим. Ворот влажный, манжеты и спина тоже. Ноги озябшие. Пастилки давали некоторое облегчение, но крайне быстротечное, я забился в пышнозадое бархатное кресло, подлокотник которого содержал все земные блага, и, кажется, задремал. Меня разбудил жаркий женский шепот за спиной, автобус на всех парах мчал нас в аэропорт.
– По ночам я рыдала на полу в ванной, – закипал шепот, – а утром, как ни в чем не бывало, улыбалась мужу за завтраком и шла на работу. Я возвращалась вся в слезах, он спрашивал меня, в чем дело, я отвечала, что неприятности по службе, едва дотягивала вечер, дожидалась, пока он уснет, и снова рыдала в ванной.
– Ну и что? – заговорщически подлизывался второй шепот. – С тем-то, с другим, что было?
– Ничего.
– А что ж вы делали, когда встречались?
– Разговаривали.
– Разговаривали?.. О чем? И зачем тогда рыдать?
Первый шепот ощутимо сникал. Второй шепот набирал силу, по всему судя – обличительную. И последнее, услышанное в полусне, немного гневное, немного гордое от поражения, которое по плечу далеко не каждому:
– Я прорыдала два месяца в ванной и все раздавила в себе. Я никому не хотела наносить такого бесчеловечного удара. Я принесла себя в жертву.
– Ну, а теперь? («Ну» – учительское, уничтожающее, расставляющее именно точки, а не какие-либо иные знаки препинания.)
– А теперь в благодарность он спит в моей постели с другой.
Разговор потух. Я открыл глаза. Рядом со мной сидел почему-то весь вспотевший и взбудораженный коллега из неизвестного мне далекого города, имени которого – ни города, ни коллеги – я вспомнить так и не смог. На нем все было пятнадцатилетней давности: и кепка, и портфель, и костюм, и очки, и лицо. Увидев, что я открыл глаза, он немедленно обратил ко мне такую же потную, как и он сам, речь о том, как у них тут, и что у нас там, и что бы надо, и чего бы никак не надо, а вот его половина… так она, и он для нее везет… вот, как я думаю… Я все поглядывал на часы, я рассчитал точно, что через шесть с половиной часов буду дома, представил, как разохается мама, увидев мое больное горло, она скажет: «Ты как мальчик, честное слово, а ведь тебе уже пятьдесят пять». «Шесть» – поправлю я ее, я покормлю в кабинете рыб, которые, увидев через стекло толстое пузо хозяина, узнают его, обрадуются, завалюсь на любимый диванчик. Мама поставит рядом с постелью мою любимую кружку с синей птицей на одной лапе с растопыренными такими же синими фалангами, – на этой кружке воспроизведен рисунок какого-то израильского мальчика, я давным-давно привез ее, сам не знаю откуда, в комнате будет пахнуть липой, малиной, мятой, я замотаю горло шарфом и примусь просматривать газеты, скопившиеся за время моего отсутствия. Мама укроет меня поверх одеяла клетчатым черно-красным пледом, по телефону она будет отвечать, что я вернулся больной, и обсуждать с подругами рецепты снадобий. Горло к тому времени, конечно же, немного успокоится, под мамины тихие разговоры из коридора я задремлю, свернувшись калачиком, подобрав под себя ноги…
Ознакомительная версия.