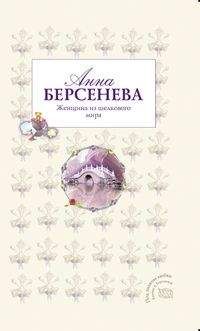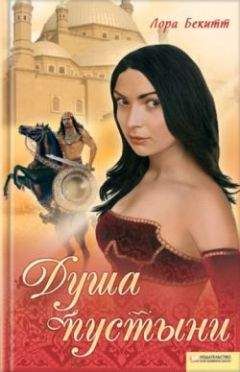Ознакомительная версия.
Ее слова были вполне искренними, такими же, как и благодарность маме.
— Я тебе все уже перегладила, — сказала та. — Отбери только, что с собой возьмешь. Свитер, я считаю, обязательно. Дети в Интернете смотрели — в ближайшую неделю в Москве похолодает.
Мама работала в школе, поэтому в повседневной жизни вела себя продвинуто: знала, какие группы принято слушать, а какие нет, почем продали в «Реал» игрока «Зенита», и о погоде справлялась в Интернете, через учеников, правда.
— Ну что уж такого особенного отбирать? — пожала плечами Мадина. — Я же всего на три дня еду.
— Я твой чемодан уже вычистил, — включился в сборы папа. — В саду сохнет. Только молния вот-вот сломается. Вернешься — отдадим заменить.
Мадина всегда удивлялась, как можно придавать столько значения подобным мелочам. При этом ее родители вовсе не были мелочными. Они словно секрет какой-то знали — секрет правильных жизненных сочетаний. Сама она так и не смогла найти точного соотношения между главным в жизни и неглавным.
— А что такое Высшие дизайнерские курсы? — спросил папа.
— Понятия не имею, — пожала плечами Мадина.
— Но ты же будешь жить в их общежитии! — удивился он.
— Но учиться ведь я на этих курсах не собираюсь. Откуда мне знать, что это такое?
«Да и зачем мне это знать?» — подумала она.
Мир, в котором она жила и который кому угодно показался бы замкнутым, представлялся ей вполне обширным, и жизнь в этом мире не выглядела для нее однообразной.
— Они где-то в центре находятся. Большая Калужская — где это? — спросила мама. — Я завтра Сережу Семенова попрошу, чтобы на карте Москвы посмотрел. А может, он и так знает.
Сережа Семенов был ее любимый ученик. Он заканчивал одиннадцатый класс, собирался поступать на филфак МГУ, и мама всячески поощряла его в этом стремлении. Она когда-то и дочку уговорила пойти именно на филфак Тверского университета. Правда, особенно уговаривать не пришлось: Мадина не очень представляла, кем хочет быть, а читать любила всегда, вот и пошла учиться филологии.
— Ну, будем обедать, — сказала мама. — Игорь, вынеси Шарику супу, и садимся.
— Я вынесу, — сказала Мадина.
Она взяла кастрюльку, в которую мама всегда при готовке отливала бульон для Шарика. Пес был старый, и жирный борщ, любимый папой, ему был уже противопоказан, поэтому суп для Шарика готовился отдельно.
В саду осень чувствовалась еще яснее, чем на улицах Бегичева. Листья на яблонях уже начали облетать, и сад от этого сделался прозрачным, светлым. Между просветленными деревьями, совсем низко, пролетела сорока. Сороки, летающие по осеннему саду, почему-то всегда казались Мадине какими-то странными существами; их полет напоминал ей фантастический фильм. Хотя птицы ведь они были самые обыкновенные.
Мадина подошла к будке, позвала:
— Шарик, иди сюда.
Пес высунул из будки морду, потом медленно, с трудом вылез сам. Он давно уже не сидел на цепи, и его не раз пытались перевести на жительство в дом, но он хранил верность своей любимой будке, стоящей под старой антоновкой. Глаза у него всегда были печальные. Не от тяжелой жизни — она-то у него была, как говорила соседка Веневцовых, иным людям на зависть, — а просто так, от природы. А когда он состарился, глаза приобрели совсем уж трагическое выражение.
Мадина перелила бульон из кастрюльки в Шарикову миску, погладила пса по седой голове и подождала, пока он поест. Папа беспокоился, что Шарик от старости может подавиться, и, хотя мама разминала собачью еду вилкой, все-таки обычно ожидал окончания его обеда. И Мадина ожидала тоже.
Поев, Шарик благодарно потерся лбом о ее руку и полез обратно в будку. Когда шестнадцать лет назад папа подобрал щенка на станции, главной чертой его характера было любопытство. Он совал свой влажный черный нос во все щели — так, что однажды его даже прищемило мышеловкой, — и целыми днями бегал за Мадиной, интересуясь всеми ее делами. А теперь от всего его долгого, целую собачью жизнь наполнившего интереса к хозяевам осталась только вот эта немножко равнодушная благодарность.
«Охлажденны лета, — подумала Мадина. — Вот такие они, значит, и есть».
Еще она подумала, что, может, когда Пушкин писал про годы старческой охлажденности, то тоже смотрел на какого-нибудь старого пса у себя в Михайловском. А может, и нет: стариков и среди людей ведь достаточно.
Вдоль садовой дорожки росли розы. Если осень выдавалась теплой, как в этом году, они цвели до ноября. Каждый раз, когда Мадина шла из сада в дом, то замечала рядом с большими облетающими цветами вновь раскрывающиеся бутоны — желтые, алые, бордовые. Из всего Бегичева только у них в саду розы цвели до самых заморозков, потому что мама любила с ними возиться и выращивала особенные сорта.
Стол к обеду был накрыт, то есть поверх вязаной скатерти покрыт прозрачной клеенкой, и на ней уже стояли тарелки. Посередине стола лежал в корзиночке черный хлеб. Он всегда был свежий, потому что хлебозавод находился рядом с домом и папа покупал хлеб каждый день, приходя точно к тому моменту, когда еще теплые буханки приносили в заводской магазин прямо из пекарни.
Мадина выросла среди множества таких вот чистых и ясных подробностей и не представляла без них своей жизни, да и жизни вообще.
— Хотела сегодня пирог испечь, да поленилась, — улыбнулась мама. — Вернее, с глажкой завозилась. Ну ничего, папа розанчики купил.
Булочки-розанчики тоже выпекались на хлебозаводе. Все московские дачники, которые в последние несколько лет как одержимые скупали дома в Бегичеве и окрестных деревнях, брали их да еще творожные булочки-венгерки десятками, уверяя, что ни в одной московской кондитерской ничего подобного уже не найдешь. То, что купленные утром розанчики черствели уже к вечеру, считалось одним из главных их достоинств. Это значило, что в тесто не добавляется никаких искусственных примесей, от которых оно могло бы не черстветь и не плесневеть по месяцу и больше.
Домашнего пирога сегодня к обеду не было, но компот был, конечно.
— У нас дома как во Франции, — сказала Мадина.
— Почему? — удивилась мама.
— Там не принято обедать без десерта.
— Я всегда считал, что французы знают толк в жизни, — кивнул папа. — И постоянно нахожу все новые тому подтверждения.
— У немцев тоже прекрасная выпечка, — заметила мама. — Кельнские кондитерские — это незабываемо!
В Кельн мама ездила в начале перестройки: немцы тогда во множестве приглашали школьных учителей для обмена опытом. Потом интерес к России постепенно угас, и учителей приглашать перестали, во всяком случае, из Бегичева. Впрочем, мама была уверена, что приглашают их по-прежнему, но уже из других мест.
Ознакомительная версия.