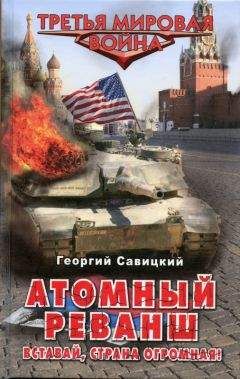Ознакомительная версия.
А вот теперь, собственно, завтрак! Что-нибудь утреннее, классическое. С хорошими сытными запахами. Яичницу с беконом, например. Можно и овсянку с фруктами сварганить, но Женька не любит овсянку. Значит, творим яичницу.
Ого… А время-то как летит! Уже и поторапливаться надо. Кусочек личной жизни закончился. Бегом в ванную – волосы уложить феном, чуть подкраситься. Потом влезть в брючный льняной костюмчик, оглядеть себя в зеркале, слегка прогнувшись и привстав на цыпочки…
– Хороша! Хороша, мам! Чудо как хороша!
Женька сонной растрепой стояла в дверях своей комнаты, глядела на мать с восхищением. Подошла, обняла горячими руками-плеточками.
– Доброе утро, мам…
– Доброе утро, доченька. Как спалось?
– Хорошо…
– Ага! Знаю я твои «хорошо»! Колись давай, когда домой заявилась? Я в первом часу заснула, тебя еще и в помине не было!
– Да ладно тебе… Ну, погуляли вчера с Денисом… Не помню я, во сколько домой пришла!
– Ох, Женька… Сессия на носу, а ты в романы ударилась! Бить тебя некому. И мне – некогда. Прихожу домой уже никакая. Устаю, с ног валюсь.
– Мам… А может, ну ее, эту твою паршивую подработку? И ладно бы действительно стоящая халтурка была. А то… Ездишь к этой старухе вампирше, только себя изматываешь!
– Нет, Женюр. Халтурка как раз и стоящая. Мне за нее хорошо платят. Я столько ни на одной работе не заработаю.
– Мам, а давай я тоже пойду работать! Можно в «Макдоналдс», например, устроиться. Вечерами. Я узнавала, там студентов берут.
– Да ладно… Придумала тоже – «Макдоналдс»! Ты бы лучше зачет поскорее спихнула, больше бы пользы было. И еще, дочь… Ты когда меня со своим Денисом наконец познакомишь?
– А зачем тебе?
– Здрасте, зачем! Я тебе мать или кто? Думаешь, мне не интересно, с кем ты ночи напролет гуляешь?
– Да ладно, шучу я. Конечно, познакомлю.
– А он вообще кто?
– В смысле?
– Ну… Он работает, учится?
– Учится. На третьем курсе в Академии госслужбы.
– Ух ты! Чиновником будет, значит. А из какой он семьи?
– Не знаю… Из хорошей, наверное.
– Ты его родителей видела?
– Не-а… Зачем мне его родители? Нет, нам кузнец ни к чему. Что я, лошадь, что ли?
– А у вас это все… ну… серьезно? Или как?
– Серьезнее некуда, мам! Любовь у нас, понимаешь? Лю-бовь! Самая настоящая! Со всеми вытекающими из нее последствиями!
– Господи боже мой… Какими… последствиями?!
– Ой, да не пугайся ты так… Я у тебя девушка умная, наследственную ошибку женщин Смородиных не повторю. В подоле тебе не принесу, это уж точно.
– Ну, смотри…
– Смотрю, смотрю, мам! И ты тоже смотри, на работу не опоздай.
– Ой, и впрямь! Ну все, Женечка, я побежала… Там завтрак на столе, поешь обязательно! Все, пока!
– Пока-пока, мам… А выглядишь и впрямь классно! Просто сногсшибательно!
Захлопнув дверь, она понеслась вниз по лестнице, унося с собою дочерний комплимент. Мелочь, а приятно, черт возьми! Нет, это понятно, конечно, что относительно классности и сногсшибательности – явный перебор. Никакая она не классная и тем более с ног никого не сшибает. Обыкновенная женщина из толпы. Росту среднего, масти неброской, северно-блеклой. Волосы русые, сроду не крашенные, стрижка удобным каре. Косметики – чуть. Но и законные сорок ей тоже никто не дает. Как выразилась когда-то Люся, ближайшая подруга и соседка, «слишком уж гнуча да прыгуча для сороковника». Ей и самой иногда казалось, что застряла возрастом где-то в районе двадцати. В юности то есть. Произвела на свет Женьку, там и застряла. Потому, наверное, что не зациклилась на своей участи матери-одиночки, как мама когда-то. Подумаешь, мать-одиночка! Зато у нее теперь Женька есть. Да все, все у нее есть! И дом, и работа, и гнучесть-прыгучесть, и два утренних часа с жизнью в обнимку… И даже своя философия относительно женского одиночества с годами выстроена.
Нет, и в самом деле… Чего его так ругать, это самое одиночество? Ругай не ругай – оно от этого никуда не исчезнет. Наоборот, с ним дружить надо, если уж оно в твоей жизни приключилось. Да, тяжело. Да, холодно. Временами тоскливо. Но несмертельно же. Наоборот, надо ему улыбнуться, руку протянуть да себе во благо использовать. Как используют, например, скисшее в простоквашу молоко. Если взбить его с мукой да с яйцом да пустить на оладушки – объедение будет. Никто и не вспомнит, из чего они получились.
Ах, одиночество, одиночество, сколько тобою женских судеб загублено! И совершенно несправедливо, между прочим! Не так уж и холодна твоя берлога, как пугливо ее рисуют те, загубленные, со своею тоскою в ней застрявшие. А если прочь эту тоску? Если поднатаскать в эту берлогу веточек смирения, да листьев тихой душевной мудрости, да хвойных иголок мягкого насмешливого оптимизма, да устелить ими дно, да обуютиться, притереться, примоститься, глядишь – жизнь-то и впрямь удалась… И нет необходимости вверх карабкаться, высовывать голову да взывать с тоскою – где ты, мой сердешный мужчина-спаситель? Приди, протяни руку, вытащи меня из берлоги! Видишь, как я тут бьюсь, все коленки в кровь исцарапала, пытаясь наружу выбраться…
И она вот так же взывала, было дело. Теперь вспоминать тошно. И забыть тоже не получается. Не дает себя забыть «спаситель», звонит хоть и редко, но регулярно. Петей спасителя зовут. Петечкой.
Поначалу, когда образовалась их связь, она даже размечталась, что все у них образуется, как в мелодраматическом сериале, где герой, вдоволь настрадавшись от стервы жены, решается на отчаянный шаг, то бишь уходит к любимой и любящей женщине, с собой даже и зубной щетки не взяв. А что? Сейчас именно такие сериальные сюжеты в моду вошли. Никто психологией всяких там «зимних вишен» не завлекается. Чем проще, тем лучше. Помучился, влюбился, порвал, ушел. И она про Петечку тоже так полагала. А зря. Хотя потом смирилась. Ну и что, пусть женат. Зато он, Петечка, ее любит. Помогает. Поддерживает. Будут какие трудности – руку протянет.
Нет, оно так все и было конечно же. И помогал, и поддерживал, и руку протягивал. И любил – раз в неделю по субботам, когда мама с Женькой к маминой подруге на дачу уезжали. А потом…
Нет, почему все-таки человек так странно устроен? Можно сделать для него десять добрых дел, а потом взять и в него же маленько плюнуть… Обидно, что запоминается именно плевок, а не предыдущие десять добрых дел! Так, наверное, большинство из нас и устроено. Потому что десять больших и добрых дел не то чтобы совсем обесцениваются, но становятся неким досадным недоразумением, неоплаченным тягостным долгом. Обидно – жуть! От обиды и обидно. Вроде как и помнить надо о десяти добрых делах с благодарностью, а тут – плевок… Так глупо люди, бывает, и разбегаются: добрые дела творящий – в одну сторону (он-то как раз про свои добрые дела помнит!), а «оплеванный» – в другую. И у каждого – своя правда. Отдельная.
Ознакомительная версия.