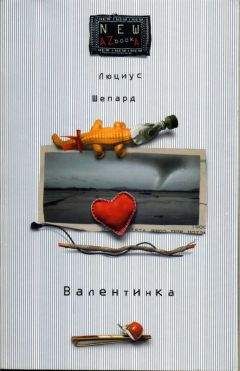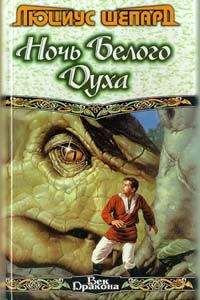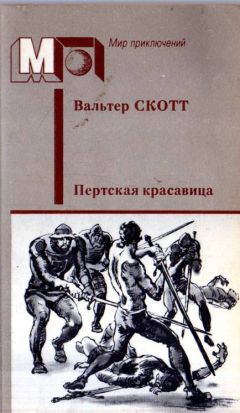Мы обогнули пруд, рассуждая, как и зачем аллигатора нарядили, но всерьез не подвергая сомнению логику, что определяла его наружность, – минимальная аномалия внутри громадной аномалии Пирсолла. Аллигатор ни разу не шевельнулся.
– Наверняка ел недавно, – сказала ты.
– Выглядит примерно как я после «завтрака чемпионов».
Я прислонился к дубу, ты – ко мне, и мы поцеловались. Лучшие наши поцелуи происходили под деревьями. Друиды в прошлой жизни.
– Ты когда вернешься в Нью-Йорк? – спросила ты.
– Зависит оттого, когда мы отсюда выберемся. И еще пару дней покопаюсь. А что?
– Да я думаю, когда лучше позвонить.
– Дома я много по делам бегаю – лучше договориться о времени до того, как уедем.
– Если уедем.
Мы обнимались под дубом, а я вспоминал, как лежал с поврежденной спиной. Ты звонила почти каждый день, часами разговаривала, мы планировали, что ты приедешь. Когда твой муж узнал, приезд отменился, телефонные звонки истощились, а затем прекратились вовсе. Ты сказала, что тебя разъедает чувство вины. Я знал, что после Пирсолла ты позвонишь, – я сомневался, будешь ли ты тем же человеком, что сейчас.
Ты костяшками постучала мне по лбу:
– Ты что это там делаешь?
– И говорить не стоит, – сказал я.
– Аналогично.
– Плохое?
– Нет, просто… мусор.
– Например?
– Например… ты не говорил, встречаешься с кем-то или нет.
Вопрос сбил плавное течение моих мыслей, и пришлось задуматься.
– Встречался.
– Она кто?
– Одна женщина, работает у моего издателя… в рекламном отделе. Анна Маллой.
– Ты с ней расстался?
– Когда увидел тебя в «Шангри-Ла».
– Значит, ей не сказал.
– Когда бы я успел?
Ты смотрела серьезно. Я понимал: вот-вот сообщишь, что не надо порывать с Анной из-за тебя. Я опередил:
– Чепуха. Я к ней не вернусь. Не очень-то приятно заниматься любовью с одной женщиной и думать о другой.
– Я знаю каково. – Ты притянула меня ближе, чтобы я не видел твоего лица, и прибавила: – Прости меня.
– За что?
– Я все время так с тобой поступаю.
– Ты еще никак не поступила, – сказал я.
Мы помолчали. Чернохвостая белка уселась возле пруда, что-то погрызла. В вершине дуба кричали сойки.
– Я должна кое-что сказать, – начала ты. – Пожалуйста, не сердись.
– Ладно.
– Я знаю, ты моего брака не понимаешь. Я не уверена, что сама понимаю. Иногда смотрю на Морриса – совершенно чужой человек. А иногда мы будто срослись.
Я заткнул себя, чтоб не комментировать твою систему образов.
Ты продолжала в том же духе и наконец добралась до сути:
– Я не хочу, чтобы ты от меня чего-то ждал.
– Я разве жду? – спросил я. – Вовсе нет.
– Ты так говоришь, но, по-моему, ждешь.
Мы балансировали на краю разговора, который вели не единожды. В нем не продохнуть от клише – мол, нет верных ставок, и ты не в игре, если вообще не рискуешь, – бесконечные трали-вали, спор, что разозлит нас обоих: в тебе вновь возродится решимость преуспеть в Калифорнии, а я буду таскаться по пирсолльским барам, курить сигареты и лакать кислятину, чувствуя себя персонажем дурного фильма-нуар, антигероем, – он должен уйти один, и шрам на лице свидетельствует о преступлении, за которое никогда не простят, а черная звезда, вытатуированная на плече, – подарок женщины, которую не забудешь. Удивительно, как быстро мы набрали скорость и заняли прежние наши позиции. И все же в то утро нам хватило ума избежать разговора. Очередное подтверждение: даже в разлуке мы повзрослели в своих амплуа.
Ты легла щекой мне на плечо.
– Я знаю, мы должны быть вместе… завести детей. Я знаю…
– Да ладно, – сказал я. – Не надо сейчас.
– Хорошо.
Ты расслабилась, прерывисто выдохнула. Я на секунду зажмурился, ощутил твое тело в потоке впечатлений, что обрушились на меня, – нажим твоей груди, роскошная выпуклость живота, плотность бедра. Ветер шуршал дубовыми листьями, раскачивал бороды тилландсии, повисшие на ветках, и я унюхал креозот – отчетливая струйка запаха на фоне морской соли и листвы. Листья пальметто взметнулись и закачались, точно в растительном экстазе.
– Как тут красиво, – сказала ты.
Мы собрались уходить, и меня прошибло ощущение, будто я могу что-то сказать, – будто существует словесная цепочка, которая с таинственной внезапностью разобьет наши оковы. Я чувствовал форму этих слов, но не мог вычленить их из туманности менее значительных, роившихся в мозгу. Но слова копошились там – а если и нет, раньше них явились их тени. Я коснулся твоей щеки, провел пальцами вдоль подбородка и ощутил ту же форму, поток слов, что я мог бы сказать, будто в истоке всех жизненных тайн – сигнал, звучащий простым ритмом, что живет в каждом изгибе света, каждой травинке, жесте и ласке. Самоосознание поблекло, оставив мне уверенность, что я хотел сообщить тебе нечто менее великолепное, но столь же правдивое, свежепостигнутую причину любви к тебе – потому что с тобой я хочу быть голосом правды, скручивающей меня, ибо правду эту я различаю лишь через твои линзы, ибо все, что я надеялся сказать, воплощено в женщине, которую обнимаю.
Аллигатор так и не пошевелился, но пестрые бумажки плавали на поверхности пруда. На аллигаторе не осталось ни одной. Словно держали их не кнопки, не клей, не изолента, вообще не канцелярский прибамбас и не клейкое вещество, но непостижимая сила, а теперь то ли закончилась доза энергии, выделенная каждой бумажке, то ли отключили генератор.
Спроси меня, сколько дней мы провели в Пирсолле, – я бы не ответил. Возможно, один сплошной день, исполосованный ночами, и ночи перетекали друг в друга. Беспредельная временная протяженность – в пределах того, что мы узнали и почувствовали, – но она казалась отсутствием времени вообще. Древние баснописцы о таком дне говорили «вечность и еще один день» – вот только вечности мы были лишены. День казался бесконечным, но конец близился, и, предчувствуя его, мы занимались любовью с нежной осмотрительностью, каждый миг запечатывая во флакон памяти, чтобы вспомнить потом глубины человека, которого узнали. Твой образ, что я лелеял, сменился более жизненным портретом: женщина-ребенок, которой я был одержим, скрылась в тени достойной женщины, которую я любил. Мы вместе стали сильнее, мы сбросили груз сомнений, взгляд наш – не столь загроможден, наша связь крепче, и все-таки основная проблема – признак твоей неполноценной воли или моей неполноценности – никуда не делась. В тот день я до вечера исследовал излучины твоего тела, подводную страну глаз, мягкие месторождения грудей и бедер, топографию влагалища, я наблюдал, как внешние губы вспыхивают и наливаются, краснота внутри темнеет до кораллового мерцания, а клитор выглядывает из-под капюшона, подчиняясь нашим химическим приливам. Долгую нитку минут я лежал без движения внутри тебя, блаженствуя, точно жаркое масло на бархате, а потом мы двигались медленно, почти тайком, смакуя каждый дюйм жидкого трения, каждый выдержанный поцелуй, словно добыча наша, весь мир, исчезнет, если задвигаемся быстрее. Мы шептали простые слова. Скорее, недослова. Умиротворяющее ворчание животного, что устраивается подле партнера. А ты, в своем самообладании самки, определяла пространство, где мы лежали в изобилии твоего приятия. Разговаривая, мы разговаривали о будущем.