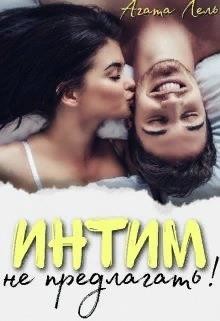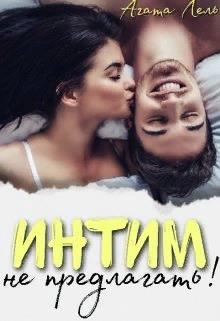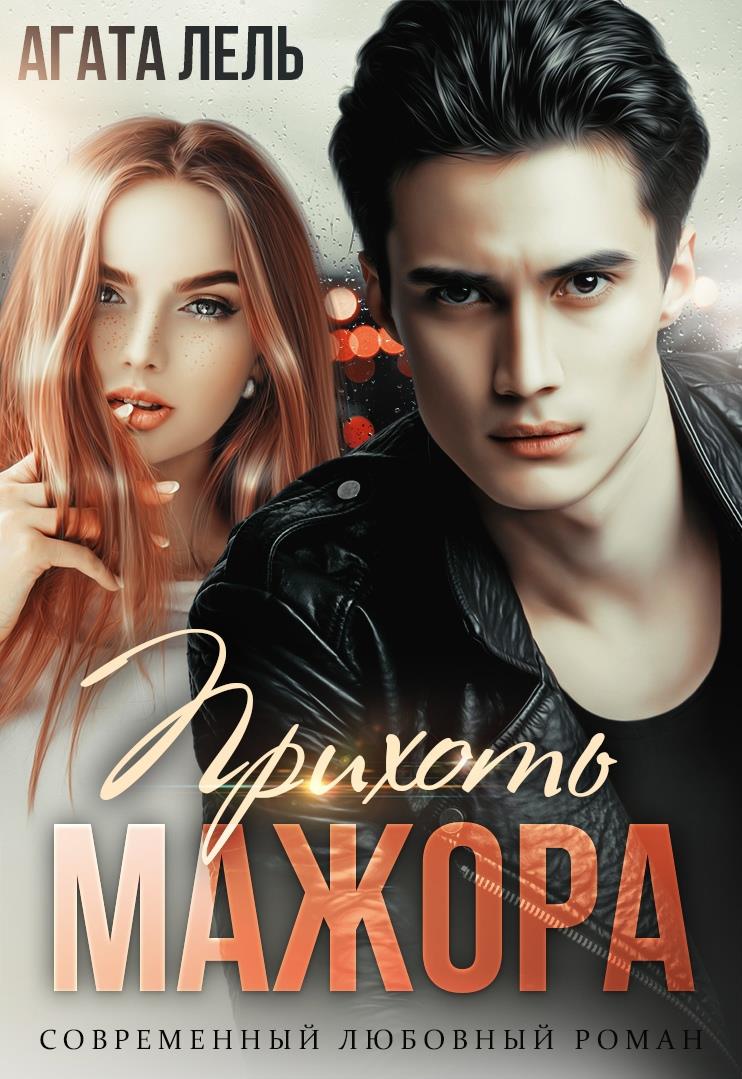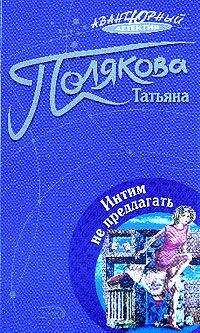Я не вижу его лица, только вихрастый затылок и эти свисающие безжизненной плетью руки… Наутро сковывает необъяснимым страхом.
Закрываю за собой дверь и делаю пару робких шагов вперёд:
— Малиновский, ты жив там?
А в ответ тишина. Не по себе стало ещё больше.
— Богда-ан.
Ноль эмоций. Коленки сковывает цепями ужаса. Бросаю сумку на пол и на прямых палках стремглав несусь к растёкшемуся по креслу манекену.
— Малиновский! Да что с тобой? Ты спишь… что ли…
Действительно, спит. В ушах вставлены наушники и как-то подозрительно фонит спиртным…
Наклоняюсь к его безмятежному лицу и принюхиваюсь. Точно, виски или коньяк, что-то крепкое.
Неожиданно он резко распахивает глаза и, подавшись вперёд, целует меня в губы. Не по-французски, но достаточно страстно.
— Ой, прости, лапуля, мне показалось, что это Моника Беллуччи, — немного заплетаясь, бормочет он, натянув глупую сонную улыбку.
— Любишь женщин постарше?
— Люблю женщин с формами.
— А что же тогда на Ковальковой не женился? У неё твёрдая пятёрка и я сейчас не про оценки.
Губы до сих пор жжёт от его поцелуя. Чёрт знает что, но сердце колотится где-то в пятках, дыхание сбилось.
Это всё от неожиданности. Определённо.
— Там отец твой внизу примерно в таком же состоянии. На брудершафт пили? — киваю на оставленный на подоконнике стакан, точь-в-точь как у Николая Филипповича. На дне плавают две сиротливые льдинки. Вернее, то, что от них осталось. — Что это на вас вдруг нашло? День взятия Бастилии в следующем месяце.
— Настоящему мужику повод надраться не нужен. Не принесёшь мне ещё стаканчик? Ноги затекли.
— У тебя же температура… — закипая, игнорирую просьбу.
— А я так лечусь.
— Когда у человека зашкаливает градус тела, противопоказано поднимать его искусственно ещё выше. Это даже ребёнок знает. Что произошло? Я же вижу, что что-то случилось: и ты, и папа — вы оба какие-то не такие.
— Тебя это никаким боком не касается. Это дела семейные, — непозволительно резко отрезает он, и его тон, смысл слов беспощадно возвращают меня с небес на землю.
Стало так обидно, словами не передать! Я прогуляла пару, лекарство от жара ему купила, гузки эти вонючие через всю Москву тащила и меня не касается?
Семейные, значит?!
Изо всех сил стараясь не разреветься подбегаю к двери, поднимаю с пола брошенную сумку и рывком раскрываю молнию. Нашариваю на дне свёрток и швыряю им в Малиновского.
Он пытается неуклюже поймать его на лету, но промахивается — из шуршащей аптечной упаковки на пол сыпятся блистеры с таблетками.
Следом ему на колени плюхается мокрый жирный пакет; Богдан брезгливо морщится и разводит колени в стороны — размороженные части убиенных куриных телес с противным шлепком плюхаются на пол.
— Фу, блин, это ещё что за хрень такая?
— Это куриные ж**ы, засунь их себе в… — вешаю сумку на плечо и, громко хлопнув дверью, стремглав бегу вниз.
Николай Филиппович что-то говорит мне вслед, но я не слушаю: вылетаю на улицу и только выйдя за коварные ворота ограждающие таунхаусы от внешнего мира, думаю, куда податься.
Денег с собой кот наплакал — всё отдала фармацевту и продавцу на рынке, Цветкова ещё на парах, а ключ от нашей съемной квартиры лежит в ящике стола в комнате Малиновского. Но там я теперь даже под конвоем не покажусь.
Возникает желание плюнуть на всё и прекратить этот дурацкий спектакль. К чёрту миллионы — если Джон меня любит, то найдёт способ и прилетит сам!
В этой семье я лишняя и своей никогда не стану, Малиновский сейчас популярно мне это объяснил и чётко указал моё место. И хоть я и не пыталась внедряться в их диаспору, но такого унижения всё-таки не ожидала.
Мне обидно от того, что обидно и от этого обидно втройне.
Я зла, удручена, и хуже всего то, что я разочарована. Будто с глаз, наконец, сняли шоры.
Прозрев, решаю всё-таки гарцевать в Печатники, в нашу родную однушку. Если что, Цветкову возле подъезда на лавочке подожду.
А Малиновский… Да пошёл он к чёрту! В этот дом я больше ни ногой.
Часть 20
— А я предупреждала тебя, предупреждала! — ворчит Анька, отпаивая меня горячим чаем с мятой. — Это порода такая буржуйская — хорошего не жди.
Детально рассказывать очень не хотелось, но в общих чертах причину побега выложить всё-таки пришлось, и вот уже битых четыре часа сижу и слушаю, какая я всё-таки дура, что пошла на это всё. И ведь реально чувствую себя дурой! Хорошо же жилось, спокойно, но нет, потянуло на сомнительные авантюры.
Пока торчала здесь, погода как-то резко испортилась: заходящие солнце скрылось за серыми ватными тучами, поднялся сильный порывистый ветер.
А вот и первые тяжёлые капли дождя по стеклу…
Дома хорошо, уютно: в любимой пижаме с заячьими ушами на капюшоне и пушистых тапках. Завтра же заберу вещи из дома Малиновского и подам на развод. Пусть катится со своими миллионами! В жизни полной вещей, имеющих бóльшую ценность, например, дружба, учёба, Джон, да тот же сладкий чай с мятой. Смазливые мажоры в этот список не входят.
Неожиданно раздался звонок в дверь: мы с Цветковой резко замолчали и уставились друг на друга.
— Ты кого-то ждёшь? — спрашиваю зачем-то шепотом.
Анька отрицательно машет головой и спохватывается:
— Может, соседка? Вдруг потоп! Хотя отопительный сезон закончился, батареи не текут… Ты на всякий сбегай глянь на кухню под раковину, мало ли — сифон прорвало, а я пойду выясню кого же там принесло.
Послушно плетусь на кухню и, открыв дверцу моечного шкафа, убеждаюсь, что всё сухо. Вечно Анька на пустом месте панику разводит. Собираюсь уже выйти и тоже посмотреть, что за названные гости в такую погоду без приглашения шастают, как меня увлекают голоса из коридора:
— Домой езжай, она видеть тебя не хочет! Давай-давай! Эй, я кому говорю? Пустому месту?
— Не вынуждай меня идти на таран, мелкая, — шутливо изрекает Малиновский и слышу уверенные шаги по линолеуму. Следом доносятся мелкие семенящие.
— Ты меня не понял? Я могу и полицию вызвать! Между прочим, это незаконное проникновение в чужой дом. Я тебя не пускала!
Малиновский раскрывает дверь кухни и застаёт меня на коленях возле открытой дверцы мойки.
Волосы мокрые, как и кожаная куртка, на лице блестят капли дождя.
— Вот, подружка уже в мусорном ведре ковыряется, а ты не даёшь ей денег заработать. И не стыдно тебе, Цветочкина?
Явился не запылился.
От подобного спича по-хорошему бы встать и дать увесистую затрещину. Быстрым взглядом оцениваю возможности противника: на ногах стоит уверенно, язык не заплетается — неужели протрезвел?
— Чего припёрся? — поднимаюсь на ноги и как сварливая жена упираю руки в бока.
— Если что — я его не пускала! — пищит из-за его спины Цветкова. — Если хочешь, давай я Семёнычу позвоню, — и уточняет Малиновскому: — Между прочим, это наш участковый.
— Подожди Семёнычу, успеется, — перевожу грозный взгляд на горе-мужа: — Так чего надо? Мы тут сильно заняты, вообще-то. Вот… чай пьём.
— Классные тапки.
Кошусь на свои пушистики с кроличьей мордой, но стараюсь держать лицо.
— Говори и проваливай.
— Пойдём, там поболтаем, — кивает на единственную жилую комнату, но я даже с места не сдвигаюсь.
— У меня от Цветковой секретов нет, мы с ней считай как сёстры. Семья, — специально давлю на последнее слово. Пусть ему стыдно станет, если он знает, конечно, что такое стыд.
— Вот-вот. И обувь сними! — влезает на правах хозяйки Анька и Малиновский на удивление послушно скидывает кроссовки.
— Идём, — и выходит из кухни. Сказал таким тоном, что спорить с ним сразу же перехотелось.
— Если что — кричи! Я тут за стеной буду, — предупреждает Цветкова и для верности достаёт из подставки огромный половник.