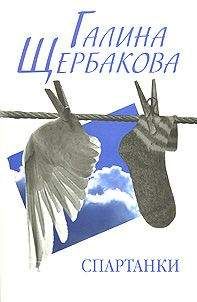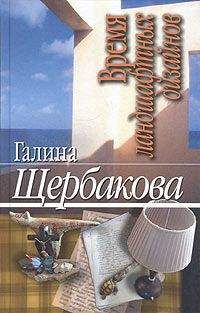Ознакомительная версия.
Пенал, глупые замечания директора, разноцветные бантики – все это было ей неудобно, все не нравилось, но это было правилом. И нет конца капкану бездарных уложений. Нет! К ней вламываются в дом и проверяют, есть ли у нее мужчина. А был бы? Тогда бы она услышала визг подъезда, визг радости от возможности укусить, тяпнуть, придавить за нарушение чьих-то, не ее, правил. Всегда, всегда хамство свободно в своем выражении к ней, а она закомплексована. И всегда так было. Человек выбирает: сам он или хам. Легко сказать, а если выбиралка сдохла в детстве? Но разве не свинство сваливать свои комплексы на маму, которая учила сидеть интеллигентно, культурно, на краешке стула, на воспитательницу детсада в синей вытянутой шерстяной кофте и подрезанных валенках, на учительницу, которая произносила «пэнал», на директрису, уже старую вдовицу, которую давно никто не любил. И она до смерти боялась возникновения в школе этой странной и опасной возможности. Господи, спаси! Так можно все свалить на крепостное право и на чудовище Сталина. Но сами мы – кто? Взялось же из ничего это сегодняшнее безбашенное поколение, идущее вслед. На каком дереве выросло оно, отважное и бесстыдное?
Скарлетт О’Хара сказала бы: «Я подумаю об этом завтра», а она тянет эту бесконечную мысль за собой на работу, по дороге опутывая ею людей, как опутывается сама мыслями о других, о дороговизне, о стонущей от артрита коленке, о том, что каждый у себя один, как было бы правильно, а просто часть больного, никому не нужного человеческого тела. На работу шла усталая, разбитая женщина. А ведь всего накануне у нее был день счастья. Или ей показалось? Во всяком случае в этом свалившемся на голову без знака предупреждения дне была возможность счастья.
«Бурмин побледнел и бросился к ее ногам». Она не знает лучшей строчки о любви – как обвале, смерче, как о невыносимом слабым и глупым телом испытании счастьем. Как она плакала девчонкой над «Метелью», и вот плачет сейчас. А надо вытереть «морду лица», она ведь идет на работу. Это вам не стена плача.
Возле ее стола сидел и ждал – кто бы вы думали? – Арсен. Такой же выутюженный и стильный, как три года тому назад. А на столешнице стоял огромный ананас, не фрукт, не ягода – ощетинившийся зверь.
– Я уже говорил с главным (это вместо «здрассьте»), он заинтересовался книгой и направил к тебе. Она – в смысле, книга – о наших пересечениях с польским кино уже сегодня, о нашем интересе друг к другу и недоверии. О симпатии и старой-престарой нелюбви. Еврославянство и евразийство. Одни словом, твердо и вкусно, сладко и горько.
– А на обложке ананас? – спросила Марина.
Он засмеялся.
– Вообще-то я имел в виду ананас в шампанском, но на обложке тоже годится. Если играть образом этого варяжского гостя, то некая символика образа есть. Ана-нас как они-нас, а мы-их. Сущность взаимодействий. Но во первых строках я настаиваю на ананасе в шампанском.
– Не актуально, – ответила Марина. – Оставляй рукопись. Посмотрю. Позвоню. Напомни свой телефон.
Он кладет ей визитку. Номер тот же, картинка другая. Они на секунду замолкают. Это пришла и села рядом Элизабет.
– Я хотел у тебя спросить, что тебя связывало с Эльжбетой.
– Я лечилась у нее от тебя. Откуда мне было знать, что у нас с ней одна болезнь.
– Боже мой! Девушки! – Он как бы тоже чувствует присутствие Элизабет. – Слишком много чести одному кобелирующему холостяку.
– Да уж это точно, – отвечает Марина. – Говна пирога. – Элизабет хлопает в ладоши, и браслеты ее позванивают.
– Я никого не неволил. Сами пришли, сами все дали. На мне вины нет.
– Что ты ей сказал, когда она позвонила?
– Неужели я это запомнил? Что-то сказал… Прямо скажу – без энтузиазма. Но ничего такого… Я не бью слабых.
Она чувствует: Элизабет уже нет. И это как приказ замолкнуть о ней.
– Тебе стало лучше от лечения? – иронизирует Арсен.
– Хуже не стало, – ответила Марина. И как-то жгуче защемило в сердце. Будто она бросила в Элизабет камень. Но она так и не узнает, какой камень бросил в нее Арсен. Его удара не выдержала преуспевающая, не сдающаяся никакому врагу Элизабет, она же Эльжбета.
– Ладно, иди, – сказала она Арсену. – Прочту твои изыски.
– Как-то очень официально, хотя и панибратски. – Он встал, человек, от которого ее лечила Элизабет, лечила – не вылечила и ушла в окно. А вылечил незваный гость из соседней квартиры. И напрочь стер отпечатки этого, который пришел с ананасом в расчете на шампанское. Она смотрит на Арсена почти удивленно. И из-за него она лезла на стену? Пошляк в противном парфюме от…
– Забери ананас, – говорит она, – я его терпеть не могу. Чуждый моему естеству фрукт. (Равно как и даритель, подумала она, но такое не говорится. Она при исполнении, а Арсен вполне может заложить ее начальству за дерзость.)
Он взял ананас. Он чуть-чуть не в своей тарелке.
– Бог с тобой, золотая рыбка. Я хотел нежного понимания, получил отлуп. Но я уверен, на оценке моего труда твое неприятие ананаса не отразится. Ты ведь до противности порядочная.
«Главное тут слово – до противности», – подумала Марина.
В дверях он отвесил ей поклон, сдобренный кривоватой улыбкой.
Марина отложила рукопись. «Не сегодня и не завтра, – сказала она себе. – Я отложу это на потом. Перебьется – не война».
Почему-то подумалось: вот теперь она окончательно (а разве было не окончательно?) излечилась от Арсена и позвонит Нине Павловне, и спросит небрежно: «Ну, и как там мой вам подселенец?»
* * *
Нина Павловна была возбуждена и сказала, что Леша (вот так!) ушел насчет работы.
В их дворе уже не метут с того времени, как обрушилась старая голубятня и голуби так взметнулись в небо, что только их и видели. Хозяин криком кричал, потом из обломков ладил для них новое жилье, но вернулась только парочка. Эту историю Марина слышала от Нины Павловны уже не первый раз. У нее в своем дворе был свой турман, соблазнительный самоубийца-показушник.
– Если его возьмут в дворники, – продолжала Нина Павловна, – то, может, дадут какую-нибудь крышу, хотя сейчас эти правила могут и не действовать.
Но тогда он поживет у нее. «Леша не выдышивает чужой воздух. Это, между прочим, редкое качество».
Возникло ощущение ненужности. Она ведь отдавала себе отчет, что работа по филологической аспирантуре из Грозного ему не светит по определению. Она планировала, не говоря себе это словами, капельный вход беженца в Москву. По чуть-чуть, незаметно. Но ей голову не могло вспрыгнуть быстрое – в дворники.
– Я скажу, что вы звонили, – сказала Нина Павловна. – По-моему, он хотел вам звонить вчера, но стеснялся.
– Он что, мальчик? – возмутилась Марина.
Ознакомительная версия.