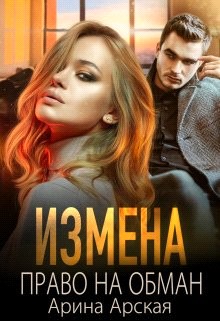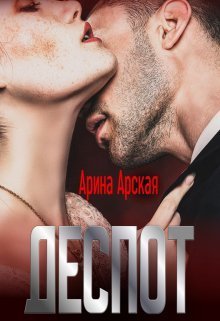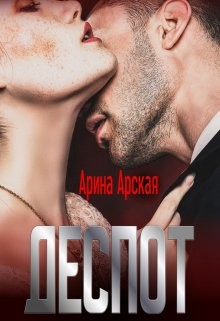мимо. — Ну, не мне тебя осуждать. Удивительно, как жизнь учит мудрости.
— Пиццу не хотите? — спрашивает Лапуля. — С ананасами.
Я оглядываюсь. Открывает коробку с неловкой улыбкой. Несколько секунд недоуменно молчания, а затем меня изнутри рвет хохот, от которого, кажется, трясутся стены.
— Я знаю, что ты изменил маме, — говорю я, не спуская взгляда лица отца. — Мне тогда было около четырех.
Едва заметно щурится и постукивает пальцами по подлокотнику кресла.
— Ты ведь маленький был…
— Достаточно взрослый, чтобы понять… — у меня скулы сводит судорогой ярости, — что ты…
— Договаривай, — смотрит прямо и открыто. — Предал?
— Да… и почему?
— Потому что пошел на поводу своей слабости, — пожимает плечами. — Потому что не считал, что предаю. Потому что в край охамел. Потому что решил, что имею право.
— А сейчас?
— Что сейчас?
— Ты меня понял, — цежу сквозь зубы.
— Нет. После того раза у меня не было любовниц.
— Почему?
— Расставил приоритеты.
— А до этого сын и жена не были в приоритете? — поглаживаю подлокотник кресла.
В библиотеке тихо, царит уютный полумрак, а на коленях отца том стихов Байрона.
— Нет, не были, — Честно отвечает отец. — Вот женишься ты по любви, прыгаешь до потолка после новости, что у тебя будет сын, а затем медленно, но верно затягивает трясина. Даже не так. Ты позволяешь этой трясине тебя затягивать на дно. Делаешь акценты на детских криках, что не дают спать, на раздражительность жены, которая потеряла блеск в глазах и немного располнела и игнорируешь другие важные вещи. Становится страшно, что больше не почувствуешь этой легкости, энергии…
Папа замолкает, минуту молчит и продолжает:
— А потом появляется в твоей жизни юная девица, которая давит тебе мозг разговорами о коликах и не требует помощи, а смотрит влюбленными глазами. Она не ждет, что ты будешь для нее стеной, защитником и ты даешь волю эгоисту, который знает лишь “хочу и дай”. Он не желает быть отцом, мужем, потому что это сложно. Семья — не его поле битвы, но после гулек всегда возвращаешься домой, потому что дом — это крепость, а эта крепость дает трещину… И страшно, ведь не только моя жена искала во мне защиту, но и я в ней нуждался. И я начал терять эту защиту, Артур.
— Ты сожалеешь?
— Да, — не отводит взгляда, — но еще больше сожалею, что тогда не отпустил твою маму. Она следит за мной. Годами. Проверяет счета, звонки, письма, сообщения на телефоне. Я ее сделал параноиком, но я струсил предложить ей разойтись после нескольких лет, а сейчас уже поздно и… я делаю вид, что не знаю о ее слежке. Игра у нас такая теперь. Она доходит до предела, звонит тому, о ком я якобы не знаю. Она получает подтверждение, что нет никаких баб, и успокаивается. На некоторое время. В этот момент я ее ловлю и у нас типа медовый месяц с ужинами, прогулками, подарками.
— Точно нет баб? — с сомнением спрашиваю я.
— Нет, — отец устало смеется. — У меня сейчас другое развлечение, как удивить жену, которая следит за твоим каждым шагом. Это, я скажу, сложно. Сегодня ей привезли саженцы черной турецкой розы, которые мне пришлось заказывать через закрытый клуб маньяков-цветочников, но об этом она узнает только через год.
— Романтично, — тихо отзываюсь я.
— И я жду цветения этих роз с большим нетерпением, — переводит взгляд на люстру. — А я ведь не люблю цветы, но их любит моя жена.
Откидываюсь на мягкую спинку кресла и закрываю глаза. Делаю медленный вдох и выдох и говорю:
— Мы с Витой разводимся.
— Почему?
— Я думаю, что ты в силах сделать вывод из сегодняшнего разговора.
— Сдал крепость?
— Разрушил и…
— И?
— И не нашел сил попросить о прощении, потому что решил, что я выше этого.
— Видимо, тот маленький мальчик за дверью не поверил отцу и в его раскаяние? — папа печально смотрит на меня.
— Нет, не поверил.
— Тебе бы было легче, если бы мы были в разводе?
— Я думаю, что тогда бы не случилось этого разговора, — открываю глаза и слабо улыбаюсь, — Ты решил отремонтировать крепость, и это, наверное, ценно. Да, трещины остались, но через год вокруг крепости расцветут черные розы.
— Да они, сволочи, еще капризные же, — папа возмущенно цыкает. — Буду тайком подливать специальную подкормку именно для этих роз, чтобы они не сдохли.
— Ты уж постарайся, чтобы не сдохли.
— Боюсь, что тогда ко мне заявятся маньяки-цветочники и закопают живьем в лесу.
— Тогда надо очень постараться, — киваю я.
— Тогда я беру тебя в сообщники, — безапелляционно заявляет папа.
— Что? — в изумлении охаю я.
— План такой, ты отвлекаешь маму, пока я прокрадываюсь в сад и подсыпаю в корни волшебной подкормки, — достает из кармана пиджака небольшую бутыль из темного стекла.
— Как мне ее отвлечь?
— Не знаю, — беспечно пожимает плечами и прячет бутыль в карман, — это же твоя часть работы.
А мне нравится эта игра. Меня охватывает детское озорство, о котором я уже забыл.
— Ладно, — решительно встаю. — Я готов.
— Отлично, — отец откладывает книгу на низенький столик с резными ножками.
Выхожу из библиотеки, спускаюсь на первый этаж и решительно выхожу в сад, в котором мама возится с саженцами.
— Ма.
— Да, милый, — задумчиво рассматривает корешки, сидя перед лункой на корточках.
— Ма, надо поговорить.
— О чем? — оглядывается.
А вот причину для разговора я не придумал. Мама хмурится, откладывает саженец и встает. Снимает перчатки и вздыхает:
— С отцом поссорился?
— Нет… Идем поговорим…
Вижу по глазам, что мама пугается. Поднимается на крыльцо, и я ее приобнимаю за плечи:
— Чай попьем?
— О, господи, точно поссорились.
Веду ее через холл в гостиную:
— Просто хочу чая.
Незаметно и мельком оглядываюсь. Папа на цыпочках бежит к выходу и поднимает большой палец вверх.
— Вы оба очень сложные, Артур, — недовольно бурчит мама. — Я думала, что хотя бы когда ты станешь взрослым,