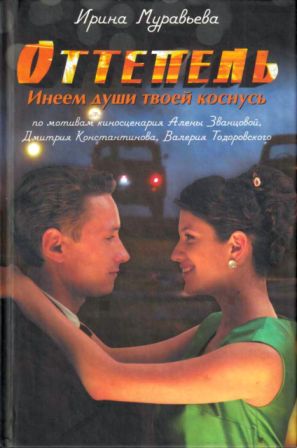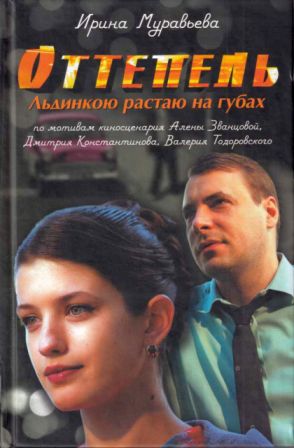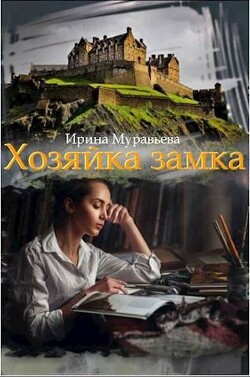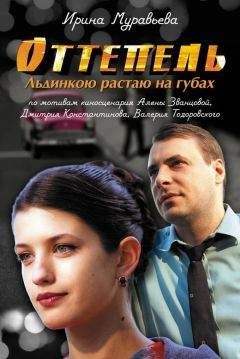я буду смотреть в глаза бабушке, Санче, Егору? Нет, это даже лучше, что Егор уезжает. Иначе было бы совсем ужасно. Потому что… потому что… Ребенок может быть только от Виктора. Да, только от Виктора. Господи, Господи… сделай так, чтобы этого не было!»
Утром Марьяна позвонила Регине Марковне и сказала, что Мячин собирается уехать к матери в Брянск. Не хочет заканчивать фильм. Регина Марковна завыла волчицей.
— В какой еще Брянск?
— Он сказал, что уезжает сегодня.
— Кривицкому сообщила?
Марьяна растерялась:
— Кривицкому? Нет. Как же я… Мне неловко…
Регина Марковна с такой силой хлопнула себя ладонью по лбу, что в руке у Марьяны задрожала трубка.
— Ах, да! Что же я говорю!
— Регина Марковна, — прошептала Марьяна, — вы же понимаете, что у нас с Федором Андреичем чисто деловые отношения…
— Да мне не до это-о-о-ого-о! — заорала Регина Марковна. — В гроб вы меня все сведете со своими отноше-е-ениями-и-и! Кино нужно делать! Идите все в жопу!
На том разговор и закончился. Марьяна туго затянула волосы узлом на затылке, надела простые черные туфельки, скромный, бабушкой связанный свитерок и отправилась в поликлинику. В регистратуру была длинная очередь, но, как ни странно, ее записали на сегодняшний прием к гинекологу Дариде Петровне Ушадзе, и подождать нужно было всего полтора часа. Она пристроилась на стуле у самого окна и принялась ждать. В приемной сидели две беременные: рыжеволосая, длинноногая, и маленькая, кудрявая, как африканка, с выпуклыми глазами. Потом пришла стройная женщина, сильно накрашенная, немолодая, но очень аккуратно одетая, с таким длинными и острыми ногтями, словно она, как ястреб, сама добывает себе пищу. Беременные сначала молчали, потом начали разговаривать. Марьяна невольно прислушалась.
— А мой говорит: «Все равно ты от меня никуда не денешься, — рассказывала африканка. — Все равно ты, — говорит, — никуда от меня не денешься. А ребенка я усыновлю. И как своего любить буду». Тогда я оставила. Он парень ведь честный. Сказал — так и сделает.
— А тот-то куда провалился? Ну, первый? — со страстью выспрашивала рыжеволосая и длинноногая.
— К жене провалился. Куда же еще!
Сильно накрашенная немолодая наконец не выдержала:
— Вот вы как, значит, рассуждаете! Вам, значит, плевать, что у человека жена есть, дети растут! Вам только бы семью разбить, только бы чужую жизнь поломать!
— А я его к себе не звала! — огрызнулась африканка. — Он сам прибежал.
«Разведусь! Разведусь!»
— Зачем ты легла? — с откровенной ненавистью выдохнула накрашенная. — Холостых мало?
— Песню слыхали? «Огней так много золоты-ы-х на улицах Саратова, парней так много-о-о холостых, а я люблю жена-а-атого-о-о!»
Из кабинета высунулась медсестра и, заглядывая в журнал, позвала:
— Абызина!
Рыжеволосая встала и пошла. Дверь за нею захлопнулась.
«Как они только двигаются с такими животами! — подумала Марьяна. — Наверное, ведь тяжело!»
Минут через сорок позвали ее. Дарида Петровна что-то писала и на вошедшую Марьяну совсем не обратила внимания. Медсестра, женщина лет пятидесяти, с большим раздраженным лицом, коротко сказала:
— Раздевайтесь! Возьмите пеленочку!
— Где? — удивилась Марьяна.
— Первый раз, что ли? — спросила медсестра.
Марьяна кивнула.
— Скажите на милость! — пробормотала сквозь зубы Дарида Петровна и тяжело поднялась. — Ложитесь!
— Куда?
— На кресло. Куда же еще?
Марьяна легла, закинула голову.
— Ноги пошире! Расслабьтесь!
Она ощутила холод огромных железных ножниц. Или это просто похоже на ножницы? Они раздвинули ее, и Дарида Петровна, нагнувшись, принялась рассматривать, что у нее внутри. Потом пальцами правой руки в резиновых перчатках залезла внутрь, а ладонью левой начала с силой надавливать на низ живота. Марьяна затаила дыхание, слезы выступили на глаза. Дарида Петровна наконец вынула руку, с привычной брезгливостью освободилась от перчаток и коротко сказала ей:
— Одевайтесь!
Дрожа от неловкости и страха, Марьяна пошла было за ширму, где лежали ее юбка, пояс, чулки и черные туфельки, но медсестра прикрикнула на нее:
— Пеленку я за вас убирать буду?
— Женщина, поторопитесь! — сердито сказала Дарида Петровна. — Вы же не одна у меня!
Марьяна проделала все, что ей велели, оделась, путаясь в вещах. Дарида Петровна кивнула на стул:
— Садитесь. Беременность — восемь недель. Оставляете?
— Что? — в страхе спросила Марьяна.
— Женщина, вы беременны, — холодно сказала Дарида Петровна. — Сохраняете беременность? Знаете, кто отец ребенка?
— Я беременна?
— Ну, не я же, — усмехнулась Дарида Петровна. Марьяна заметила, что верхняя губа у нее покрыта густой черной растительностью. — Вы давно живете половой жизнью?
Марьяне хотелось провалиться сквозь землю:
— С весны. Да, с весны, с конца мая.
— Партнеров меняли?
— Партнеров?
— Партнеров! Любовников! Что непонятного?
— Да. Я поменяла… партнера… Недавно.
— Недавно: когда?
— Ну, неделю назад…
Дарида Петровна переглянулась с медсестрой. Та пожала плечами.
— Работаете?
— Нет, учусь. Не работаю…
— Короче, рожать собираетесь? Нет?
Марьяна низко опустила голову.
— Не знаю. Все так неожиданно… Очень…
— А вы что, не знали, откуда берутся детишки? Не знали? Вы думали, что их в капусте находят?
Марьяна затравленно оглянулась на медсестру.
— У вас есть недели три на решение, — сердито сказала Дарида Петровна. — Захотите выскабливать, придете опять, я выпишу направление. В любом случае вам нужно сделать все анализы. Это вне зависимости от того, сохраните ли вы вашу беременность или нет. Вот эту форму заполните и идите в лабораторию. Может, еще сегодня успеете.
Она вышла из кабинета, не чувствуя ног. Ребенок. Значит, она беременна, а Хрусталев, как сказала эта кудрявая в очереди, «провалился к жене». Она будет матерью-одиночкой, как уборщица у них в школе, тетя Маруся, сын которой, Вовка, учился с Марьяной в одном классе, и тетя Маруся, маленькая и вся какая-то кривенькая, говорила про него «безотцовщина». Бабушка не переживет, а Санча начнет стыдиться ее, потому что вообще «чистоплюй», как дразнили его в детстве. Ах, да при чем здесь Санча! Мысли ее начали путаться. Что же теперь делать? Какое жуткое слово произнесла эта усатая докторша.
«Выскабливать»! «Выскабливать» ребенка, маленького, крошечного, живого мальчика или маленькую, крошечную, живую девочку. Марьяна опустилась на лавочку, ноги не держали ее. Ей вдруг пришло в голову, что если бы мама, которой она почти не запомнила, «выскоблила» бы ее, или Санчу, или их обоих вместе, то ведь ничего бы этого не было: ни этого неба, ни этого облака, ни дерева, ни даже вон той паутинки… А было бы — что? Темнота? Или что-то еще страшнее темноты? Опять почему-то вспомнилась тетя Груша, которая говорила бабушке:
— Ты, Заинька, верь! Верь, и все! Он дитят не оставит!
Она всегда обращалась к бабушке не «Зоинька», а «Заинька». Это запомнилось. Марьяна вдруг вся залилась густой краской и вскочила с лавочки. Нечего идти в лабораторию и делать какие-то