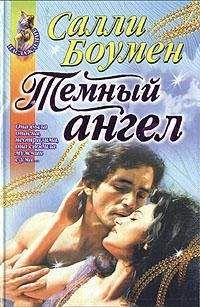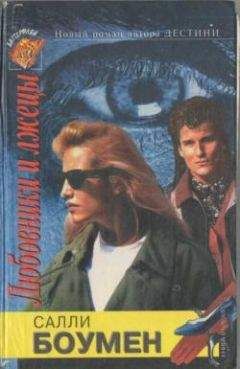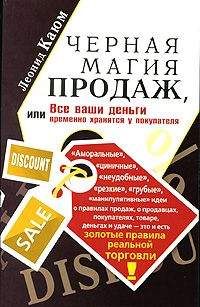– Поцелуй меня, – нагнулась к нему Констанца. – Не могу себе представить, что ты поцелуешь меня, а потом станешь подсовывать на подпись эти бумажки. Ты не сможешь. Ты не сможешь не признать, что все это ложное, все: эти бумаги, тон, которым ты говоришь со мной, да все вообще. Я твоя жена. И ты… почти любишь меня.
При этих словах Констанцы Штерн поднялся. Она приблизилась к нему и обвила руки вокруг его талии. Она подняла к нему лицо. Штерн серьезно посмотрел на нее.
– Ох, Монтегю. Ты понимаешь меня. Как всегда понимал. Пожалуйста, расскажи, что ты во мне видишь.
– Ты выглядишь очень обаятельной, Констанца, – сказал Штерн. – Для меня ты всегда была таковой. И однажды я подумал… мне захотелось…
Склонив голову, он поцеловал ее. Сначала губы, а потом закрытые глаза. Он вытер ей мокрые от слез щеки и поцеловал еще раз. Констанца, всхлипывая, прижалась к его груди. Штерн погладил ее по волосам и потом скользнул рукой по ее затылку. Он оставил пальцы на изгибе шеи, пока приходил в себя и успокаивался; затем через несколько минут он отодвинулся от нее.
Констанца вскинула голову посмотреть на него. Она издала слабый звук, в котором чувствовалось разочарование. Импульсивным движением она прижала руку ему к щеке, а потом отдернула ее.
– А, понимаю. Я вижу, что наделала. Я читаю это по твоему лицу. Как я себя ненавижу. И как сожалею.
Перегнувшись через стол, она взяла документ о раздельном владении имуществом.
– Озабочен самосохранением, Монтегю?
Штерн отвел взгляд.
– Что-то вроде.
– Отлично. Я поняла. В таком случае я подпишу. Я подпишу, потому что забочусь о тебе. От всей души. Вот! Видишь? – Схватив ручку, Констанца подмахнула свою подпись. Она искоса взглянула на мужа. – Как я благородна! Никогда еще я не позволяла себе таких великодушных поступков. – Она улыбнулась. – А тут инициалы? Так. Готово.
Она отшвырнула бумагу, надела колпачок на ручку.
– Мы похожи? – спросила она, склонив голову.
– О, весьма.
– Монтегю…
– Да, моя дорогая?
– Если, как ты сказал, мы никогда не увидимся и если я обещаю оставить этот кабинет сразу же, как ты ответишь, могу я задать тебе один вопрос?
– И ты сдержишь обещание?
– Абсолютно. Ты же знаешь, я смогу.
– Очень хорошо. Спрашивай.
– Стоит ли? Ты же знаешь, какой вопрос я хочу задать.
– Неужто?
– Да. Остался только один.
– Я так и предполагал. – Штерн помолчал.
– Это так трудно? Я же тебе говорила.
– Определенные жизненные привычки… – Он пожал плечами.
– Ох, Монтегю, да откажись от них. Хоть раз.
– Очень хорошо. Я люблю тебя, Констанца. И всегда любил, и очень сильно.
– Какая бы я ни была? Что бы ты ни знал обо мне? Даже в таком случае?
– Даже в таком. – Штерн помолчал. – Но рациональный подход тут совершенно ни при чем, да ты и сама знаешь.
– Как я хотела бы быть другой. – Констанца сделала слабый безнадежный жест. – Я хотела бы переписать себя, стереть и начать все заново. Я хотела бы стереть прошлое, чтобы от него ничего не осталось. Были времена – я давала себе обещания. И очень трудно отвечать им сейчас, но я попробую. Посмотри в другую сторону, Монтегю. Глянь в окно. Ты видишь, какой серый день. Ты видишь, что начался дождь?
Штерн глянул в окно. Низко висели облака. Он не слышал ни звука шагов, ни стука закрывшейся двери, но, когда он повернулся, Констанцы уже не было.
* * *
Констанца вернулась к прошлому, к этим черным блокнотам, в которых предстояло заполнить последние страницы. На них нет даты, но я предполагаю, что они заполнены в конце того же дня, сразу же. Последняя попытка Констанцы разобраться с прошлым. Я читала их поздней ночью рядом с по-прежнему молчавшим телефоном; пламя в камине уже затухало, и меня охватывал холод комнаты.
Почерк был почти неразборчив, и в нем чувствовались обуревавшие ее эмоции. Констанца, очевидно, торопливо набрасывала свое признание; и, читая, я испытывала к ней жалость.
«Вот, вот, вот, – начинала она, с такой силой бросая слова на бумагу, что кое-где она была прорвана. – Слушай, Монтегю. Констанца расскажет тебе, как все это было».
* * *
Заставил решиться Констанцу крольчонок. Если бы он не погиб такой смертью, она бы никогда этого не сделала. Но силок затянулся слишком туго. Он прорезал шерстку и врезался в плоть, так что крольчонок задохнулся, пока она пыталась высвободить его. Это было гнусно так поступить с ним: отвратительно, отвратительно, отвратительно.
Она не видела, как умирала ее мать, но крольчонок, расставаясь с жизнью, дергался. У него помутнели глаза. Ему больно умирать, подумала Констанца – да, это больно, я вижу, что он чувствует, – и, взяв большую палку, она стала шарить ею в траве вокруг поляны.
Увидев капкан, она подумала: вот оно, оно ждет. Она видела, что это существо проголодалось. «Дай мне что-нибудь съесть», – словно говорила пасть капкана, и голос у него был металлический, как скрежет ржавого металла. Какая огромная пасть: она зияла, она хотела заполнить свой проем.
Констанца тогда сначала растерялась. Первым делом она похоронила крольчонка. Она любила отца, но она была растерянна все время, пока копала могилку и укладывала в нее бездыханное тельце крольчонка, потому что понимала, что ей надо все видеть, подсматривать и шпионить; и капкан сказал ей: сделай это.
Так что, когда крольчонок был захоронен, она побежала обратно домой, быстро-быстро. На бегу она стала даже задыхаться. Ей не позволялось бывать в той части дома, но она все равно проникла туда. Вверх по лестнице, приоткрыть дверь в гардеробную. Там все было красное, и портьеры были красные, и они были задернуты. Она слышала, что они там, по другую сторону драпировки. Она слышала, чем они там занимаются.
Такое она слышала не в первый раз. Это было в Лондоне с ее няней, когда та лежала за дверью ее спальни, – стоны, всхлипывания и тяжелое дыхание. Она знала, что была тайна. Она знала, что это было грязным. Стоит ли ей посмотреть?! Она никогда раньше не видела. Поцелуи, да; она подсматривала, как целуются, но потом убегала. На этот раз, подумала она, я должна увидеть, только чуть-чуть, я посмотрю в щелочку красного занавеса.
Ее отец занимался этим с Гвен. У Гвен были связаны руки, как у большой белой птицы. И папа делал это с ней, все те штуки, что он проделывал с Констанцей, все то, когда он говорил ей, что любит ее.
Точно то же самое. В руке он держал свою кость и трогал ее. Он растирал ее ладонью, и она становилась все больше и больше, и вот она встала торчком, большой папин штырь, ее штырь, тот самый, который он пускал в ход, когда любил ее и когда наказывал.