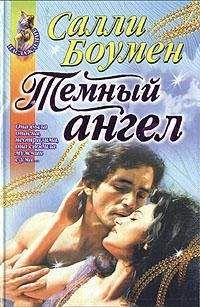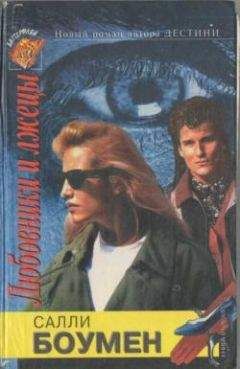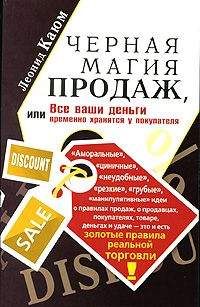– Почему, – сказал Френк, – когда ты пишешь мне письма, я никогда не могу получить их? Что там было, в твоей записке?
– Если ты покинешь прием в свою честь, выберешься черным ходом, сядешь в свою машину, проедешь столько миль в ночной темноте и затем полночи будешь бродить в саду… и ты в самом деле сделал это?
– Да. Я и сам думал это сделать.
– Тогда тебе не стоит даже получать мое послание.
– И все же… Что в нем говорилось?
– Ничего особенного. Ничего, что теперь имело бы значение. И ничего, что впредь имело бы значение.
– Ты уверена?
– Совершенно. Оно было очень коротким. Вопрос о новых фильмах. О шахматных проблемах.
Френк остановился. Он сказал:
– Как я люблю твою память.
– Ты видел меня на лекции, Френк?
– Нет. Но я знал, что ты здесь. Думаю, что мысленно я это понял. Я остановился на середине фразы. Знай я, что ты в самом деле в зале, то раскидал бы свои записи на все четыре стороны.
– Ты же говорил не по записям. Ты импровизировал.
– Я мог бы спрыгнуть со сцены. Профессура расступилась бы передо мной, как волны Красного моря перед Моисеем. И…
– И?
– Я продемонстрировал бы этой более чем достопочтенной аудитории нечто гораздо лучшее, чем лекция. Я бы устроил им демонстрацию относительно некоторых простейших форм биохимических процессов.
– Френк… – с некоторой предостерегающей ноткой сказала я. – Ты знаешь, что в доме Векстон?
– Нет, но это неважно. Векстон тактичный человек. Он будет невидим для нас. Несколько холодновато целоваться на открытом воздухе, как мне кажется. Пойдем внутрь, ладно? Кроме того, я хочу тебе кое-что показать.
– Что-то мне показать?
– Да. Думаю, что это подарок, который имеет смысл для нас обоих. Я его не открывал. Мне его доставили в отель прошлым вечером. Некое подношение. С моей фамилией на наклейке. И я узнал почерк.
Я тоже узнала почерк. Небольшой кожаный чемодан с выразительным ярлычком: «Доктору Френку Джерарду». Строчки и буквы были прямыми и четкими, чернила черными. Я приподняла чемодан и убедилась, что он довольно тяжелый. Я посмотрела на Френка.
– Ты знаешь, что в нем?
– Думаю, что да. Да.
– Как и я. Откроем?
– Думаю, что попозже. Теперь уж спешить некуда.
Наконец на следующее утро, расположившись в гостиной Винтеркомба, мы открыли его. Положив его на ковер, мы вскрыли чемодан – и вот где они оказались, наши письма. Как только была поднята крышка, они потоком высыпались на ковер, все эти выцветшие конверты с неразборчивыми почтовыми штампами. Мой почерк, круглый и несформировавшийся; почерк Френка, который был и остался европейским. Американские штемпели, английские, французские, немецкие. Мы пересчитали их. Все были на месте, ни одно не пропало.
Это был жест, и Френк потом сказал, что таков был фирменный знак Констанцы: вызвать удивление, потрясение, действуя открыто и дерзко. И я также увидела характер ее последнего жеста, когда Констанца решила в последний раз опустить занавес над жизнью так же, как она и существовала – последние акты должны идти под бравурные звуки.
Френк, я думаю, не понял этого, я же была слишком счастлива, и, кроме того, знала, что теперь мне нечего опасаться со стороны Констанцы.
* * *
Мы с Френком поженились в Лондоне, в присутствии растрепанного Векстона, исполнявшего роль шафера, и сияющих Фредди с Винни как свидетелей. Свадьба состоялась в ноябре, почти двадцать лет тому назад от этого дня, когда я пишу, но я помню все ее подробности совершенно четко.
Констанца дождалась, пока брак можно было считать свершившимся фактом, тогда – ждать она, наверно, больше не могла – приступила к действиям.
Известие о ее смерти пришло к нам примерно через три недели. Я впервые услышала о ней не от друзей, а от неизвестного репортера из Шотландии, который, собирая материал для лондонской газеты, искал подтверждения этой истории.
Это могло бы порадовать Констанцу, которая столь любила увертки и неопределенность. Ее порадовало бы и то, что обстоятельства ее смерти так и остались необъясненными и по размышлении были отнесены к разряду несчастных случаев. Констанце удалось и в смерти добиться успеха, окружив ее, как и свою жизнь, догадками и домыслами.
Такова, по крайней мере, общественная версия ее смерти, принятая газетами, ее коллегами, друзьями, любовниками и соперницами. Версия эта не имела ко мне никакого отношения: я всегда не сомневалась в причине произошедшего, ведь к тому времени я прочитала все ее дневники.
Констанца решила умереть – и я не сомневалась, что она решила разобраться в своем последнем и лучшем секрете, – в том месте, где она провела свой медовый месяц. Этот дом, когда-то принадлежавший моему дедушке, был приобретен Штерном. Штерн по завещанию оставил его Констанце. И я думаю, что вплоть до момента смерти она никогда не посещала его.
Выбор времени ухода так и остался ее тайной, чего, без сомнения, она и хотела.
Порой я могла думать, что Констанца пустилась в свое последнее путешествие, когда умер Стини; в другие времена я думала: она выбрала его значительно раньше, может, когда скончался ее муж. Порой мне казалось, что она руководствуется случайными совпадениями, какой-то симметрией номеров: ей было тридцать восемь, когда она вошла в мою жизнь; мне было тридцать восемь, когда она покинула ее. Хотя, в целом я думаю, что самое простое объяснение является и самым правильным: точно так же, как Констанца могла в полночь объявить, что на следующее утро она отправляется в Европу, точно так же она могла, проснувшись, щелкнуть пальцами и сказать: «С меня хватит. Давай-ка посмотрим, что это за штука – смерть».
Но даже если я не могу объяснить ее расчет времени, я знаю маршрут ее путешествия. Первая остановка: апартаменты на Парк-авеню, оставшиеся от века коктейлей, сохраняющиеся в неизменности еще с тех дней, когда ими владел Штерн, где она оставила мне свои дневники. Затем целая цепь различных визитов, подробности которых всплывали в те недели, что последовали за ее смертью. Есть некоторые неясности, но существует и уверенность. Я знаю, что она побывала в тех двух лондонских домах, которые они со Штерном некогда арендовали. Я знаю, что она отправилась на поиски того дома в Уайтчепеле, где Штерн провел свое детство. Когда я шла по ее следам, то нашла этот дом, где обитала семья бенгальцев: они узнали Констанцу по фотографии.
Не уверена, что в месяцы, предшествующие ее смерти, она пыталась понять Штерна. Я скорее предполагаю, что она словно пустилась в кругосветное плавание по своему прошлому, прежде чем окончательно проститься с ним. И в нем она была совершенно одна, в чем нет сомнения: нет никаких свидетельств, что кто-то сопровождал ее. Я вспоминаю о последнем ее телефонном звонке ко мне с вокзала. Думаю, я знаю, кого она имела в виду, когда говорила о человеке, который нетерпеливо ждет ее.