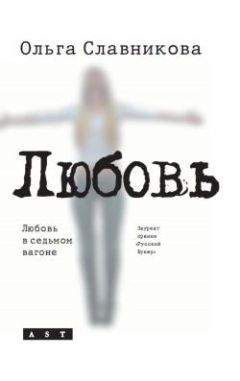Дэвид взял дочь на руки и посмотрел на ее смешное маленькое личико. Ее голубенькие глазки, которые только что раскрылись, смотрели прямо на него, и он внезапно почувствовал, как его сердце наполнилось любовью. Он дотронулся пальцем до щечки девочки и ощутил ее нежность. Она была почти невесомой у него на руках. Наклонив голову, он поцеловал дочь и прошептал:
— Голубушка — вот ты кто. Папина маленькая голубушка.
Девочку всегда звали Ханичайл, хотя при крещении она была наречена Элоиз Джорджия Маунтджой Хеннесси в епископальной церкви Святого Михаила в Далласе.
Церемония состоялась в Далласе, потому что Роузи не хотела, чтобы в Сан-Антонио знали, что она все еще не вышла замуж за Дэвида, хотя очень на это надеялась.
Дэвид купил своей маленькой Ханичайл мягкого, свернутого калачиком медвежонка.
— Вот тебе, моя маленькая девочка, — сказал он с нежностью, сажая его ей в кроватку. — Будешь обнимать его, когда папы нет дома.
Девочка счастливо вздохнула и закрыла глазки. Дэвид тоже был счастлив: теперь его жизнь была полной чашей.
Прошло несколько недель, летняя жара высушила бесконечные просторы Техаса, и Роузи охватило странное чувство.
— Ты просто ревнуешь, вот и все, — резко сказала ей Элиза. Она хлопотала у плиты, помешивая в кастрюлях рагу из цыпленка и мамалыги — любимое блюдо Дэвида. — Вполне естественно, что женщина чувствует себя так после рождения ребенка. Дети всегда на первом месте. Тебе лучше оставить все как есть, — посоветовала Элиза.
— Ну разве это справедливо? — горько заметила Роузи, хотя знала, что дети должны быть накормлены первыми, первыми выкупаны, но почему их надо первыми целовать? Дэвид каждый вечер, возвращаясь домой и взбегая по лестнице, звал свою Ханичайл. Каждый раз только и слышно: Ханичайл, Ханичайл, Ханичайл… «Черт возьми, — думала Роузи, — а как же я?»
Медленно шли годы. Роузи так и не научилась ездить верхом, как этого хотел Дэвид, чтобы она могла повсюду сопровождать его. Зато она научилась водить машину и стала ездить на «форде» Дэвида в Сан-Антонио, где ходила по магазинам, обедала в фешенебельном ресторане, где у нее была возможность продемонстрировать новую одежду. Иногда она возвращалась домой затемно.
Элиза всегда оставалась с Ханичайл до возвращения Роузи и с облегчением вздыхала, завидев прыгающий свет фар, когда машина подскакивала на корнях, выступавших на проселочной дороге, ведущей к дому. Ей всегда приходилось гадать, вернется домой Роузи или исчезнет навсегда, не в силах оставить театр бурлеска, по которому она так скучала.
Подкрашенная новой помадой и источающая аромат новых духов, Роузи бросала пакеты, скидывала туфли на высоких каблуках и начинала рассказывать Элизе о фильме, который посмотрела, о новой модной одежде, которую она видела на городских женщинах, и о местных торжествах, свидетельницей которых она была, сидя в ресторане, но никогда не задавала вопроса о своей уже давно спящей дочери. И Элиза была готова поклясться, что улавливала в дыхании Роузи запах спиртного.
Совсем по-другому было с Дэвидом.
— Эй, Ханичайл! — кричал он, взбегая по ступеням на веранду после окончания долгого рабочего дня. — Где ты, детка?
И с тех пор, как только она начала делать первые шаги в возрасте тринадцати месяцев, Ханичайл бежала ему навстречу так быстро, как только могла; ее светлые волосы развевались, глазенки горели от возбуждения, а на хорошеньком личике сияла радостная улыбка.
Роузи с надутым видом ходила взад-вперед по веранде, куря сигарету — новая мода, которая вошла у нее в привычку, — и молча наблюдала, как Дэвид поднимает дочку высоко над собой. Ребенок визжал от восторга, когда отец делал вид, что роняет ее, затем прижимал к себе и крепко целовал.
— Как сегодня мама? — спрашивал он, подходя к Роузи. Она подставляла ему щеку для поцелуя, он вдыхал запах ее духов и одобрительно говорил: — Ммм, что-то новенькое? — При этом подмигивал ей, давая понять, что позже она может ожидать от него большего. Но Роузи знала, что его сердце принадлежит Ханичайл.
Дэвид впервые посадил Ханичайл на лошадь — на настоящую лошадь, а не пони, так как никогда их не любил, считая, что они слишком проворные и темпераментные, — когда ей было два года. Он привязывал ее к специальному седлу с плетеным сиденьем, стараясь постепенно приучить к нему. К трем годам девочка обходилась без плетеного сиденья и научилась ездить в настоящем английском седле, а когда ей исполнилось четыре года, Дэвид подарил ей лошадь.
Лаки была кобылой в серо-белых яблоках, с развевающейся бежевой гривой и таким длинным хвостом, какого Ханичайл никогда в жизни не видела. Она полюбила свою кобылку с первого взгляда, и эта любовь была взаимной. Ханичайл каталась на Лаки по ранчо вместе с отцом, иногда целый день. Роузи, казалось, никогда не скучала по ней, а вот Элиза за нее боялась.
— Не надо беспокоиться, — заверял ее Дэвид. — Лаки — самая устойчивая кобыла из всех, что у меня были. Когда Ханичайл устает, мы останавливаемся, она съедает свой ленч и немного спит. Кроме того, она должна познакомиться с ранчо, ведь когда-нибудь оно будет принадлежать ей.
Так обстояли дела до того самого дня, когда Дэвид выехал на своем «форде» с проселочной дороги на шоссе прямо под колеса мчавшегося на большой скорости грузовика для перевозки скота, везущего телок на рынок. Он вылетел из машины, и последнее, что видел, падая на землю, был указатель «Ранчо Маунтджой», раскачивающийся над его головой. И последний звук, который он слышал, было мычание коров, обратившихся в паническое бегство и растоптавших последний огонек жизни, который еще теплился в нем.
Два дня спустя Роузи, одетая в легкое платье из черного крепдешина и маленькую черную шляпку с вуалеткой, стояла у края могилы, проливая злые слезы в обиде на Дэвида Маунтджоя за то, что он умер, так и не женившись на ней. Ее единственным утешением было то, что никто из соседей не знал, что она в действительности не была миссис Маунтджой. Но сама Роузи была обеспокоена, так как это мог знать адвокат. Как вдова Дэвида, она должна была унаследовать ранчо. Как Роузи Хеннесси, не наследовала ничего.
Ханичайл крепко держалась за руку матери. Ее голубые глазки потемнели от ужаса, когда она смотрела, как красивый полированный дубовый гроб с серебряными ручками опускают в землю. Ей сказали, что ее отец лежит в нем, и она громко заплакала, когда священник бросил первую горсть земли на гроб.
— Успокойся, дитя, — сказала ей Элиза. — Папе сейчас хорошо. Он на небе вместе с Иисусом.
Том Джефферсон, сын Элизы, вытирая слезы, взял девочку крепко за руку и медленно повел прочь от могилы.