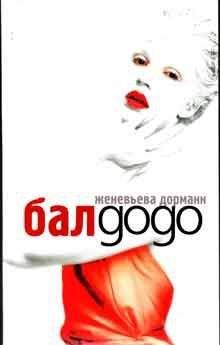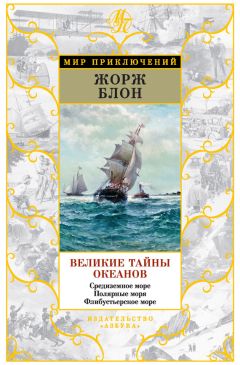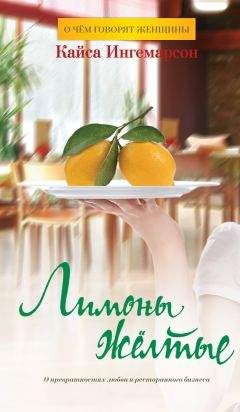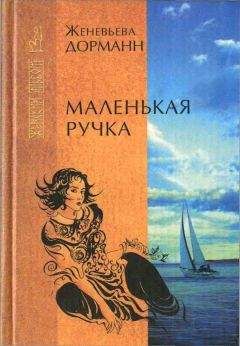Глава 12
Набрав крейсерскую скорость, самолет разрывает километры ночи, несется прямо в Найроби. Футболисты от дешевого вина и высоты сморились. Им на смену пришли члены клуба каникул, и теперь уже они гогочут, устраивают переклички с одного ряда на другой, лапают женщин, перебрасываются подушками и одеялами, метя в головы друг друга, собираются кучками в проходе и сметают сигареты, духи и алкоголь, продаваемые на борту. Малагасийский младенец заходится в плаче, извиваясь на руках матери. Голова запрокинулась на подлокотник, и на черном лице виден только широко раскрытый розовый рот, в глубине которого яростно трясется крошечный язычок. Равнодушно проплывает стюардесса, поправляя кудряшки, мысленно подсчитывая количество подносов, которые ей придется навалить на тележку к ужину. Бени нервничала и опасалась, что в таком узком кресле и до судорог недалеко. Сидящий впереди пассажир откинул спинку своего кресла, и пространство для движения еще больше сузилось, Бени не сдержалась и несколько раз пнула коленом, срывая зло на неудобном соседе. Он у нее уже в печенках сидел, этот престарелый сорокалетний юноша, которому на вид под семьдесят, а он до сих пор еще не вырос из растоптанных кроссовок, растянутого свитера и традиционно разорванных на коленках джинсов. Сквозь раннюю лысину просвечивает череп, где несколько разложенных прядей формируют легкий волосяной туман, дополненный длинной, до плеч, порослью, жеваной, со следами залома, как будто до этого все было завязано чулком. Небритое серое лицо с двухдневной щетиной, две серьги в одном ухе — кольцо в мочке и оправленный рубин в хряще — вот и весь арсенал его инертной персоны, вполне пригодной для музея Гревен. Рыжее нечто рядом с ним, с кудрявой объемной шевелюрой, непрестанно взывает к их совместному продукту — пятилетней девчонке, такой же рыжей и кудрявой, как и ее мать, и до крайности злой. Бледная кожа, широкий вдавленный лоб и острая мордочка больной овцы, вскормленной чипсами и замороженными продуктами. Она совершенно невыносима, все время ползает по проходу, лезет под кресла, просовывает пальцы в дверные щели туалетов и бегает по проходу, таская за собой трех отвратительных кукол, три уменьшенные копии маленьких шлюшек, с платиновыми волосами, осиными талиями и вызывающей грудью.
«Беладонна, иди сюда, — кричит мать, — Беладонна, иди скушай конфетку! Беладонна, оставь тетю в покое!» И все это, чтобы оповестить присутствующих, что их овцу зовут Беладонна. «Правда, в мэрии отказались записать это имя, зато на Кристель согласились, но мы все равно зовем ее Беладонна. Ты прекратишь или нет? Хочешь, чтобы я рассердилась?»
Но Беладонна чихать хотела на материнские призывы и продолжает свою сарабанду на глазах у отца, который залепил себе уши плеером и трясет головой в такт призрачным ударникам, перекатывая жвачку. Беладонна пристает к стюардессе, липкими руками хватает Бени за колени, а та сокрушенно размышляет: для чего медицина достигла такого прогресса, зачем делают прививки от оспы, куда подевались все людоеды, нет чтобы сожрать эту говнюшку с овечьей башкой.
Мамаша вдруг стала трясти своего лысого: «Рикардо, сделай чо-нить, у меня не смогла, не смогла ее держать!» Тот раздраженно выдергивает наушники, приподнявшись, ловит Беладонну за конечность и, притянув к себе, освобождает проход, где уже столпились люди. Бени с удовольствием ожидает отцовского шлепка, который наведет порядок, но пожилой юноша только удерживает Беладонну и жиденьким голосочком мямлит ей: «Прекрати, Белла…» Этого слишком мало, чтобы успокоить девчонку, она извивается, вопит, как раздраженная овца, а потом орет прямо в лицо отцу: «Меня от тебя тошнит!» Наконец-то, уверена Бени, затрещина будет. Ничего подобного! Лысый защитник окружающей среды и не собирается колотить свою овцу за такую мелочь. Он хихикает и горделиво оглядывается, наслаждаясь эффектом от выходки Беладонны. И снова вмешивается мать. Стиснув зубы, на грани нервного срыва, она грубо вдавливает ее в кресло, пристегивает ремнем и затыкает рот резиновой пробкой в форме соски, а отец опять нацепляет наушники и дергает шеей в такт музыке, которая грохочет в его голове.
Бени сложилась в своем кресле буквой 2 и с закрытыми глазами пытается разложить на составляющие запах падали, который исходит от этого скопившегося стада: тяжелые пуки, исторгнутые из сотен кишок, сдавленных высотой, смешиваются с запашком, свойственным водоплавающей дичи, запах чеснока и прокисших в синтетике подмышек, запах ног, распухающих в обуви, и миазмов промежности, дыхание, отяжеленное обезвоживанием, жирные испарения от одежды и волос, пропитанных всем земным варевом, обкуренных горячим и холодным дымом, тошнотворный мясной запах женской крови и аммиачные пары концентрированной урины, которые вырываются, когда открываются двери туалетов. Она заставляет себя терпеть этот букет человечины и чувствует себя униженной оттого, что она тоже его часть, часть этих сотен будущих трупов, набитых в летающем скотном дворе. И мысль об этих грядущих мертвецах, которые пока еще являются живыми вонючими телами, причудливо переплетается с размышлениями о бабушке, которая уже не здесь и больше никогда не будет здесь, в конце ее путешествия.
Никогда не будет здесь, она отсутствует, вышла, уехала, исчезла. Бабушка скончалась… говорилось в телексе, Бени уверена, что тетушка Тереза с большим удовольствием отправляла его и даже наверняка настаивала на том, чтобы лично исполнить эту миссию, злорадно запуская это горе в телетайп. «На, держи, вот тебе, моя маленькая Бени! Твоя дорогая бабушка С(кон) Ч(a) Л(ась)!» Лучше бы она написала отлетела, померла или даже сдохла, наконец, это было бы не так вульгарно, как казенное скончалась, от которого несет административным окошком гражданского состояния. И Бени подумала: прав был Нерон, когда казнил гонцов, приносящих плохие вести. Бабушку для нее убили эти два слова проклятого телекса, и она представила тетю Терезу в платьице из либерти, с ее вздернутым носом и малюсенькими коричневыми глазками, брошенную в яму к голодным львам, и сердцу становится чуть легче.
Бени думает об умершей бабушке снова и снова, даже когда ей кажется, что ум занят другим. Временами старая дама преображается и раздваивается. Теперь есть две Франсуазы де Карноэ. Одна из них — реальная и живая, та, что навсегда останется в памяти, с хорошо знакомыми жестами, которая явилась ей несколько часов назад такая помолодевшая. В ней теперь появилась еще одна сущность, она вроде и ее бабушка, и в то же время это уже не она, теперь это что-то совсем незнакомое, нечто, скоропортящийся продукт, которому угрожает декабрьская жара, от него надо побыстрей избавиться.