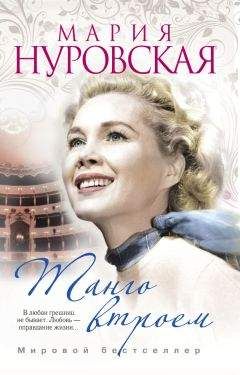– Говори.
– Стряслась беда, – произнесла я, вся дрожа, слезы опять готовы были политься ручьем.
– Какая беда?
– В том-то и дело, что не знаю… и это меня больше всего беспокоит.
Я рассказала ему все по порядку, о моем посещении кинофонда, потом о том, как я заявилась к Эльжбете, о своей идее играть вместе в пьесе Булгакова, наконец, о генеральной репетиции…
В комнате воцарилась тишина.
– А зачем ты к ней пошла, ну, в тот первый раз, что-то я не очень понимаю…
– Я тоже, – ответила я. – Сама частенько об этом думаю… возможно, я хотела кое-что проверить…
– Что, например?
Я на минуту задумалась. Из-за ударной дозы выпитого виски мой мозг, казалось, раздуло. Такое у меня было впечатление.
– Знаешь ведь, как бывает в театре? Ты молодой, а потом вдруг появляется кто-то моложе тебя… и уже дышит в спину. Совсем как в этой пьесе, где Арманде семнадцать лет… А я, мне кажется, старовата для этой роли… Ну, то есть объективно я молодая, но… время играет уже против меня, так же, как когда-то против нее… Может, я пошла посмотреть, что время может сделать с актрисой… И не смогла примириться с ее поражением – как будто это я проиграла… Понимаешь? Возможно, я все это делала в первую очередь для себя, а не для нее… Хотела себе доказать, что даже если я проиграю как женщина, то театр мне все восполнит… Такой же компенсации мне захотелось для нее. За это я и решила побороться…
– Монолог, достойный леди Макбет! Ее тоже съедали амбиции.
– Ты можешь говорить серьезно?
– Не могу. Не могу всерьез относиться к страхам молодой, талантливой актрисы, которую режиссеры рвут на части, предлагая разные роли, по поводу того, что у нее что-то в жизни не получится.
Я отрицательно покачала головой:
– Она тоже когда-то была молодой и талантливой. Имела оглушительный успех в спектакле по пьесе Мрожека, совсем как я, только в пьесе Чехова. Стартовали мы одинаково успешно. Но потом она где-то сорвалась… вернее, в какой-то момент совершила ошибку, я не хочу ее повторить. И должна понять, в чем была ее ошибка, чтобы не совершить такую же…
Теперь Дарек покрутил головой:
– Ошибки каждый совершает свои, и только свои.
Я почувствовала, что мне надо выйти в туалет. Села и спустила ноги на пол.
– Ты куда это собралась? – всполошился он. В его глазах был неподдельный страх. Так значит, когда Дарек говорил в самом начале, что ему все равно, если я уйду, он притворялся, это была игра. Вечная игра. Сплошная игра.
– Сейчас вернусь, – ответила я, скрывая усмешку.
В туалете, таком тесном, что там не нашлось места даже для умывальника, на полу я заметила книжку. «Король мертв» – воспоминания последней жены Лонцкого о нем. Почему Дарек держит ее здесь? Он, фанатично обожавший этого актера. Возвращаясь, я прихватила книгу с собой:
– Почему ты держишь эту книгу в уборной?
– Потому что ей там самое место, – отрезал он.
Я ошарашенно смотрела на него.
– Эта писанина – чушь собачья, оскорбление его памяти, – взорвался он. – Жаль, что у нас не прижился обычай сжигать жен вместе с умершими мужьями!
«Мы все сумасшедшие», – подумала я, залезая обратно под одеяло.
– И все-таки мне хотелось бы знать – почему не состоялась премьера? – вернулся он к нашему прежнему разговору. – Мне это надо знать.
– Почему «надо»?
Он молчал.
– Последний выход Эльжбеты на сцену – это был настоящий триумф театра. Великая роль вдохновила ее на великое исполнение…
В комнате повисла тишина. А потом я услышала:
– Говоришь о ней как о великой актрисе, а это всего лишь бывшая жена, которая решила отыграться на своем муженьке!
– Да ты с ума сошел!
Я подскочила и села в кровати, подтянув к подбородку колени.
– В качестве великой актрисы она существует только в твоем воображении. Разве другие это уже подтвердили? Разве ты услышала еще от кого-то высокую оценку ее игры, от режиссера, например, а?
– Мне было достаточно того, что я видела собственными глазами.
Дарек расхохотался:
– Человек видит то, что хочет увидеть. Я бы подождал, пока это не скажут другие люди.
– Не дождешься. Мадлена ушла со сцены навсегда.
– Не Мадлена, а актриса, которая ее играла, – возразил он, повысив голос. – И прекрати наконец путать реальную жизнь со своими спектаклями, это до добра не доведет. Нельзя этого делать, понимаешь!
– Ирина была права, – вздохнула я.
– Какая Ирина?
– Ирина. Ты был самым умным, а теперь нет. Как муж Маши.
– Какой Маши?
– Маши.
Я откинулась на спину, голова кружилась, я чувствовала, что мое тело наливается свинцом, веки сами собой опадают. Кажется, я заснула, потому что ничего уже не помнила из нашего разговора. Меня разбудил резкий звонок в дверь. Я была одна в спальне, свет не горел.
И тут до меня дошло, что я слышу голос Зигмунда:
– Время позднее, извините за беспокойство, но не у вас ли, случайно, моя жена?
– Она спит, – коротко бросил Дарек.
– С вами?
– Нет, с вами. Ко мне она прибегает за помощью.
Я услышала какую-то возню и не на шутку перепугалась. Вскочила с кровати и вышла в коридор. Оба уставились на меня. Волосы мужа были взъерошены, он то и дело отбрасывал пряди со лба.
– Зигмунд, я уже иду, – сказала я, снимая с вешалки плащ.
Он помог мне его надеть. А Дарек молча смотрел на нас обоих. Когда мы шли вниз по лестнице, я попросила:
– Зигмунд, пожалуйста, не соглашайся больше играть в разных дурацких сериалах.
– Ладно, – кивнул он.
Начались репетиции с актрисой, которая подменила Мадлену. Почему-то я думала именно так – она подменила Мадлену, и я тоже совершала на сцене подмену – моя Арманда становилась другой.
В результате на мои плечи свалился двойной груз: предстояло убедить зрителя, что я – булгаковский персонаж, и одновременно убедить в этом себя, что было делом непростым и даже (мне это стало ясно во время репетиций с новой партнершей), прямо скажем, невозможным для меня. Текст я знала назубок, все реплики подавала вовремя. Но вдохновение пропало безвозвратно. Я вспоминала наработки прежних репетиций, во время которых была настоящей Армандой, и, как прилежная ученица, старалась, насколько могла, повторить точь-в-точь свою мимику – взгляд, изгиб брови, улыбку. Можно сказать, я подражала самой себе, и, кажется, довольно ловко – режиссер не делал мне никаких замечаний. Оказалось, что, неукоснительно придерживаясь своей прежней концепции роли, я так отлично копировала саму себя, что сумела обмануть других. Но у меня-то иллюзий на этот счет не было. Я чувствовала, что происходит что-то необратимое, что свет, который всегда был во мне и который помогал моему вдохновению творить сценический образ, угас. Раньше все казалось просто, каждая новая актерская задача была мне по плечу, как сшитое по мерке платье. Я чувствовала, знала, что достаточно всего несколько примерок – и оно сядет на мне как влитое. До этого таких сметанных на живую нитку костюмов в моем актерском шкафу было полно, теперь же шкаф опустел. Пока об этом известно было только мне одной. А что будет дальше? Как будут обстоять дела с новой ролью? Ролью Маргариты, к примеру. Я так ей радовалась, с пеной у рта доказывая Зигмунду, что я не слишком молода для этой роли, которая станет для меня своеобразным вызовом. Но это было тогда. А теперь я была готова с ним согласиться, воспользоваться его формулировкой, чтобы не играть возлюбленную Мастера. Но ведь будут и другие предложения. И что тогда… Постепенно во мне рос страх перед сценой. Первый такой звоночек, легкое предчувствие провала, прозвенел для меня, когда Эльжбета впервые пришла в наш театр. Неужели то, что сейчас творится со мной, имело какую-то связь с ее появлением в моей жизни? Что, если она, внезапно исчезнув перед самой премьерой, унесла с собой мой внутренний свет? Или же меня так изменило потрясение, вызванное отменой премьерного спектакля? Всем своим существом я срослась с Армандой и уже была не в состоянии освободиться от нее. Так или иначе, я испытывала подобные ощущения и раньше – например, когда играла Ирину, – но софиты на сцене гасли, и постепенно мое тело снова начинало принадлежать мне, а что самое главное, я получала обратно свою душу. На этот раз, однако, огни рампы не желали гаснуть вместе с окончанием представления, продолжая светить вовсю. Стоявшая за кулисами Арманда ждала выхода Мадлены на сцену, когда она до конца договорит свою реплику: «Арманда, Арманда, сестра моя, поди, архиепископ и тебя благословит. Я счастлива… я счастлива…» Мадлена покидает сцену. Выход Арманды. Шаррон ее спрашивает: «Скажи, ты знаешь, кто был сейчас у меня?» Арманда ужасается, вдруг поняв все: «Нет, нет… Она сестра моя, сестра». Шаррон: «Она твоя мать. Ты дочь Мольера и Мадлены». И если бы я произнесла эти слова на премьере, последние слова роли Арманды, то, быть может, а скорее всего наверняка, всех этих проблем теперь бы не было. Эта роль, как бывало и со всеми другими, отпустила бы меня, но она осталась несыгранной, поэтому Арманда продолжала стоять за кулисами, ожидая своего выхода, в то время как я подменяла ее в сцене исповеди с актрисой, которая подменяла Мадлену… Я так боялась провала, того момента, когда в ужасе понимаешь, что ничего невозможно сделать и ничего изменить. И свет в зрительном зале не вспыхнет, потому что все происходит на самом деле. А хуже всего было то, что прожектора, освещавшие сцену, не желают гаснуть… А ты вдобавок не понимаешь, почему так происходит. Нельзя же потерять талант в одночасье. Нельзя стать звездой на один день, а назавтра вдруг перестать ею быть. А что, если можно – и теперь мне представился случай убедиться в этом? На собственной шкуре. Моя шкура… ее я тоже отдала Арманде, а теперь она не хочет возвращать мне меня. Так может, мое спасение заключается в том, чтоб отыскать Мадлену, ту Мадлену? Но это оказалось делом трудным, прямо сказать, невыполнимым.