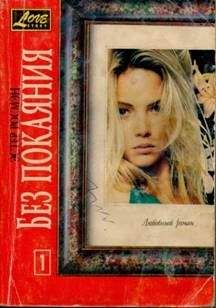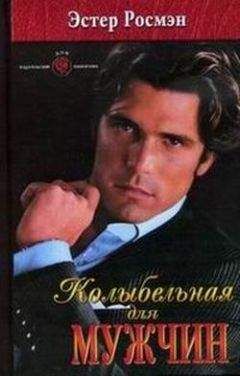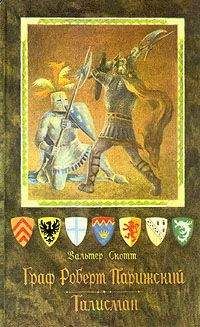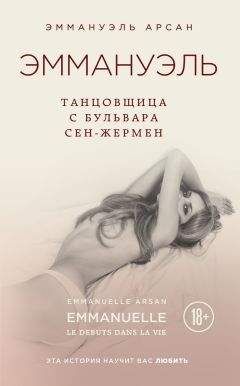— Что мы будем делать, Харрисон? Неужели ты действительно все можешь уладить?
Он вздохнул.
— Доверься мне. Я еще не знаю, как мы выкрутимся. Мне нужно все обдумать, а на это требуется время. Но я обязательно что-нибудь придумаю.
Она заглянула ему в глаза, страстно желая поверить. Раздражение его прошло, но лицо оставалось серьезным, мертвенно бледным. Очевидно, мысленно он уже впутывал ее новость в огромную сеть своих политических перспектив. Сейчас их крохотное дитя в одиночку противостоит всем тем вещам, которые Харрисон считает жизненно важными, — этим чертовым избирателям с их вшивыми голосами, чертову сенату, его жене…
Мэджин боялась, что ее младенец и она вместе с ним не перетянут чашу этих весов. Она шла сюда в парк, имея хоть и слабую, но надежду, она думала, что он обрадуется ее новости, что их любовь возвысится надо всем остальным. Глупые мечты, теперь она это видит. Политики слишком прагматичны. Это не означает, конечно, что он о ней не позаботится. Она знала, что он любит ее. И всегда жила этой мыслью.
Она взглянула на него, и ей показалось, что Харрисон смягчился. Он смотрел ей прямо в глаза и нежно сжимал ее руки в своих. Мэджин ощутила эмоциональный подъем.
— Прости меня, — сказала она. — Я действительно виновата, что так все получилось.
Он кратко кивнул, затем приблизился к ней и поцеловал. Его губы коснулись ее губ как-то рассеянно, он поцеловал ее будто из вежливости, а не от любви.
Когда он отступил назад, она изучающе всмотрелась в его лицо, надеясь найти там хоть что-то для себя положительное, хоть какую-то основу для самой маленькой надежды. Увы! А она-то вообразила невесть что… Внезапно его глаза расширились, рот приоткрылся, лицо исказилось от боли. Он застонал.
— Харрисон, что случилось? Что такое? Тебе плохо?
Рот его открылся еще шире, и в горле что-то булькнуло. Казалось, он окаменел, как будто даже не дышал.
— Сердце… — прохрипел он.
Мэджин почувствовала, как что-то содрогнулось у нее в животе.
— Харрисон! О Боже мой! — Она сжала его руку. — Харрисон, что я могу для тебя сделать?
— Вызови «скорую»…
Отступив к скамье, он сел, все еще прижимая руку к груди и издавая хриплые стоны. Мэджин с ужасом смотрела на него, обхватив ладонями свое лицо. Ей хотелось закричать, но она понимала, что этого делать нельзя. Надо вызвать «скорую помощь»!
— Ты можешь немножко посидеть один? Я добегу до телефона.
Он кивнул. Потом Харрисон некоторое время смотрел, как она бежит по тропе к Эр-стрит. Боль пронизала его грудь и руки. Это сердечный приступ. Да нет, инфаркт! Он умирает. Он осторожно лег на скамью. Резкая боль немного ослабла и теперь стала тупой. Харрисон закрыл глаза и постарался сконцентрировать все мысли на своей груди. Прислушиваясь к биению сердца, он почувствовал некоторое облегчение, дававшее надежду, что он выживет. Да, наверное, он не умрет. Боль обрела вполне терпимый характер, и сердцебиение замедлилось. Он будет жить.
Он посмотрел на тропу. Мэджин, должно быть, пошла к домам на Эр-стрит, найдет телефон и вызовет карету «скорой помощи». Боже, думал он, надо надеяться, что у нее хватит сообразительности не проболтаться…
Можно представить, как затрубят об этом газетчики. Уже самого сердечного приступа достаточно, чтобы повредить его карьере, а если еще приправить все это фразочкой типа «найден на руках молодой симпатичной приятельницы» — это вообще катастрофа. А Эвелин! Господи! Что он скажет Эвелин?
На тропинке послышались шаги, и он, повернув голову, увидел Мэджин, бегущую к нему с ужасным выражением лица.
— Ох! — воскликнула она, задыхаясь. — Слава Богу, ты… Все хорошо. — Она присела на краешек скамьи. — Я вызвала, скоро приедут…
Он слабо улыбнулся.
— Тебе очень больно? — спросила она, тяжело дыша.
— Сначала — ужасно, а сейчас ничего. Думаю, все обойдется.
— Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи.
Мэджин взяла его за руку. В отдалении послышался слабый звук сирены.
— Потерпи, родной. Через минуту они будут здесь.
Он кивнул.
— Может, тебе лучше уйти…
— Нет, я не могу оставить тебя.
— Мэджин, лучше, чтобы они не застали меня с тобой. Зачем давать лишний повод для разговоров…
Она покачала головой.
— Никто же не знает, кто я такая. Я могла случайно на тебя наткнуться, просто увидела, что человеку плохо. И потом, репортеров же здесь не будет.
— Зато они будут в больнице. Прошу тебя, не провожай меня до больницы. Пожалуйста.
— Ладно, не буду. — Она поглядывала в сторону улицы. Звук сирены звучал уже где-то не очень далеко. — Может, мне встретить их?
— Да, пожалуй… Ты покажи им, где я, а сама иди домой. Не говори им, кто ты. Только покажи им, где я, и сразу уходи…
Его слова больно задели ее, но прежде, чем она успела ответить, он закрыл глаза. Харрисон думает только о себе, только о себе, что, впрочем, естественно, его сердце не принадлежит ему, таковы политики. Чуть не умирает, можно сказать, и все еще думает о голосах избирателей, которых может лишиться.
— Я пойду встречу их, — пробормотала она и ушла по тропинке в сторону Эр-стрит.
Несколько минут спустя, когда Харрисона перекладывали со скамьи на каталку, Мэджин стояла в отдалении, рядом с остановившимся поглазеть бегуном. Когда его покатили в сторону ожидающей машины «скорой помощи», она последовала за ними. Расстроенная, она молча смотрела, как его погружают в машину. Потом, пока делались приготовления, чтобы дать ему кислород, она услышала, как он сказал:
— Пожалуйста, сообщите моей жене. Она сейчас наверняка беспокоится. Я хочу, чтобы она была со мной.
Эти слова пронзили Мэджин сердце. Она почувствовала себя совсем разбитой. Ну вот, подумала она, он и выкинул меня из своей жизни.
Машина отъехала и направилась в сторону Висконсин-авеню, звук сирены начал помаленьку удаляться, пока не утих совсем, когда машина, влившись в поток уличного движения, свернула за угол. Мэджин посмотрела вниз, на свой живот, положила на него ладони и, думая лишь о его последних словах, сказала себе: «Иди домой».
Бритт с портфелем крокодиловой кожи в руке вошла в лифт, нажала кнопку шестнадцатого этажа и бездумно смотрела перед собой, пока лифт не остановился и дверь не открылась. Пол коридора устлан роскошными ковровыми дорожками коричневого цвета, на стенах — панели орехового дерева, украшенные бронзовыми канделябрами и живописными полотнами с изображением охотничьих сцен. Мельком поглядывая на живопись, Бритт свернула к приемной. Над входом, выложенная золотыми рельефными буквами, сияла надпись: «Хогэн, Готлиф и Браунинг». Секретарша сидела в дальнем конце обширной приемной.