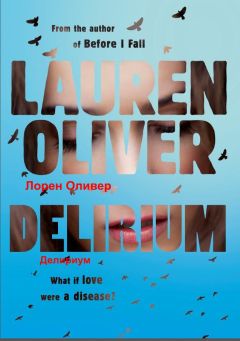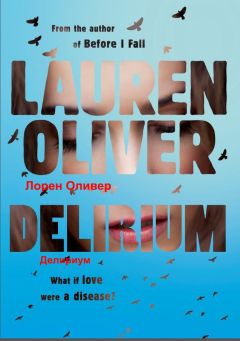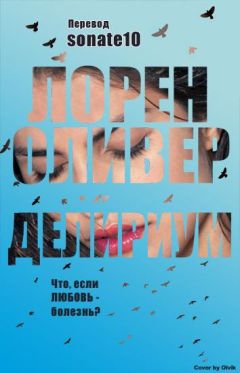И больше у меня ничего нет.
Это вовсе не значит, что у меня не осталось никаких воспоминаний о маме. Осталось, ещё сколько! Особенно если учесть, что она умерла, когда я была совсем крохой. Помню, например, вот что: когда выпадал свежий снег, она давала мне пару мисок и посылала на улицу — набрать снега. Когда я возвращалась, мы наливали в снег кленовый сироп и затаив дыхание наблюдали, как он почти моментально застывает янтарными нитями, закручивающимися в причудливые узоры — хрупкие, филигранные, похожие на кружево, только съедобное. Ещё помню, как мы ходили с ней на пляж у Восточного Променада и она всегда напевала что-то весёлое, когда плескалась со мной в воде. Не знаю — может, в то время в этом и было что-то странное. Другие матери учили своих детей плавать. Другие матери окунали своих младенцев в воду, мазали их кремом от загара, чтобы нежная кожа не обгорала, словом, делали всё, что положено заботливым матерям — в соответствии с наставлениями, содержащимися в главе «Для родителей» Книги Тссс.
Но они не пели.
Помню, как она приносила мне тарелки с поджаренным хлебом, когда я болела, и целовала мои царапины, когда я падала и обдирала коленки. Один раз, помнится, я грохнулась с велосипеда и, само собой, разревелась. Мама подняла меня на ноги, обняла и стала утешать; но тут какая-то прохожая тётя ахнула и заявила ей: «Постыдились бы!», а я не поняла, почему это мы делаем что-то стыдное, и заплакала ещё сильней. После этого случая она обнимала и успокаивала меня только тогда, когда никто не видел. На людях же она лишь хмурилась и говорила: «Ничего страшного с тобой не случилось, Лина. Вставай».
А ещё мы устраивали танцы! Мама называла их «танцы с носками». Потому что мы сворачивали ковёр на полу гостиной, потом надевали свои самые толстые носки и принимались носиться по всему дому, скользя по начищенным половицам, словно конькобежцы. Даже Рейчел — и та принимала участие, хотя всегда утверждала, что уже слишком взрослая для всяких там младенческих забав. Мама плотно задёргивала занавеси на окнах, а щели внизу обеих дверей — как с улицы, так и из сада — забивала подушками; потом врубала музыку на всю — и начиналось веселье! Мы хохотали так, что в постель я всегда отправлялась с ноющим животом.
В конце концов я поняла, что она задёргивала занавеси во время наших «танцев с носками», чтобы нас не увидел проходящий по улице патруль, что забивала подушками щели в дверях, чтобы соседи не нажаловались — мол, музыка слишком громкая и смеются слишком весело. Ведь всё это — первые сигнальные звонки deliria. У мамы был кулон в виде серебряного кинжала, который она всегда носила на цепочке вокруг шеи. Этот кулон — военный знак отличия, оставшийся от моего отца, а он в свою очередь унаследовал его от своего отца, моего деда. Так вот, я поняла, почему она всегда прятала цепочку под воротник, когда выходила из дому — чтобы никто его не увидел и не заподозрил что-то неладное. Я поняла, что все счастливейшие мгновения моего детства были коварным обманом чувств. Этого нельзя было делать! Противозаконно и опасно. Мало того — ненормально. У мамы мозги были набекрень, и я, возможно, унаследовала от неё эту придурь.
Впервые в жизни я задалась вопросом: что она чувствовала, о чём думала, когда той ночью шла к краю обрыва и не остановилась, продолжала идти, даже когда под ногами был один лишь воздух? Была ли она напугана? Вспоминала ли о нас с Рейчел? Сожалела ли, что оставляет нас одних в чуждом мире?
Мысли перескочили к отцу. Его я не помню совсем, кроме очень туманного, далёкого образа — две тёплые, натруженные руки и склонившееся надо мной большое лицо. Впрочем, думаю, что это просто воспоминание о портрете, который висел в маминой спальне — на нём был изображён отец со мной на руках. Мне всего несколько месяцев, и он улыбается, глядя в камеру. Конечно, настоящего отца я не помню, не могу помнить. Он умер, когда мне ещё и года не исполнилось. Рак.
В спальне стоит ужасная жара, пышет от стен, душит, гнетёт... Дженни перекатилась на спину, вольготно раскидала руки-ноги поверх одеяла и беззвучно дышит широко открытым ртом. Даже Грейси крепко спит, что-то неясно шепча в подушку. Вся комната пропахла влажным дыханием, мокрой кожей и парным молоком.
Я поднимаюсь с постели, уже одетая в чёрные джинсы и майку. А зачем зря напрягаться, влезать в пижаму? Всё равно не усну этой ночью. Ещё до того, как залезть в постель, я приняла решение. Я тогда сидела за обедом с Кэрол, дядей Уильямом, Дженни и Грейс. Все молча жевали, равнодушно взглядывая на соседей по столу. А у меня было чувство, будто сам воздух давит на меня своей тяжестью и не даёт дышать. И тогда я кое-что поняла.
Ханна сказала, что у меня нет «нужной затравки», но она неправа.
Сердце бьётся так громко, что я слышу его удары и уверена — другие тоже их слышат. Наверняка тётушка уже проснулась от этого грохота, уже вскочила с кровати и готова схватить меня при попытке улизнуть из дому. Что, собственно, я и собираюсь сделать. Вот уж не подозревала, что сердце может колотиться так громко! Вспомнился рассказ Эдгара Аллана По, который мы читали на уроке обществоведения. Там один человек убивает другого человека, а затем сдаётся полиции, потому что ему слышатся удары сердца убитого, тело которого он спрятал под половицами[13]. Мораль рассказа: человека гнетёт и мучает чувство вины, порождаемое неповиновением законам общества и бла-бла-бла. Когда я прочитала эту историю, она мне показалась бесцветной и мелодраматичной. Но вот теперь она до меня доходит. Наверно, Эдгару По в юности много раз приходилось тайком сбегать из дому.
Я открываю дверь спальни, затаив дыхание и безмолвно молясь, чтобы она не скрипнула. Вдруг слышу, как вскрикивает Дженни, и моё сердце ухает в пятки. Но Дженни поворачивается набок, обнимает подушку... Я медленно выдыхаю, поняв, что она всего лишь завозилась во сне.
В коридоре кромешный мрак. В спальне тёти и дяди тоже темно, тишину нарушает лишь проникающий снаружи шелест деревьев да потрескивание и покряхтывание стен — обычное дело, старые дома вечно страдают артритом. Наконец я набираюсь храбрости и выскальзываю в коридор, беззвучно закрывая за собой дверь спальни. Двигаюсь так медленно, что кажется, будто стою на месте, но на самом деле потихоньку скольжу вперёд, ведя рукой по стене и ощущая под пальцами выпуклый узор обоев. На цыпочках добираюсь до лестницы и дюйм за дюймом продвигаю руку по перилам. Так и кажется, что несмотря на все мои предосторожности, сам дом всё делает мне наперекор — так ему хочется, чтобы меня поймали. Каждый шаг отдаётся скрипом или треском, каждая несчастная половица прогибается под моими ногами, и я начинаю мысленно торговаться с домом: «Если мне удастся добраться до входной двери, не разбудив тётю Кэрол, Богом клянусь, никогда больше не буду хлопать дверьми! Домик, миленький, никогда больше не назову тебя «старым, сухим куском дерьма», ни-ни, даже мысленно! И не буду ругаться нехорошими словами, когда подвал зальёт водой, и никогда, никогда не буду пинать стенку спальни, когда Дженни в очередной раз выведет меня из себя!»