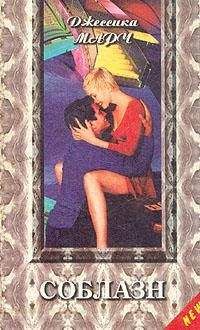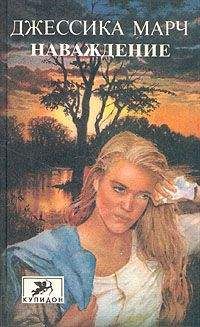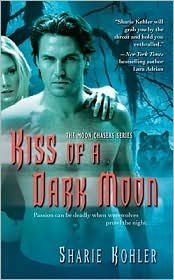Фил помог разместиться Энн и Хэлу, а затем уселся рядом с водителем; задние сиденья были отделены стеклянной перегородкой. Люди из КГБ следовали за ними на маленьком «Москвиче».
– Когда я буду произносить сегодня свою маленькую речь, – поинтересовалась она, – следует ли мне отметить, что это исторический момент? Намекая… ну… что никто не владеет так международной дипломатией, как сенатор Хэл Гарретсон?
– Не перестарайся, – ответил Хэл. – Я всего лишь потенциальный кандидат, не забывай. Неважно, насколько я впереди по результатам голосования. Пока еще я далек от президента. И моя партия предпочитает, чтобы я не огорчал раньше времени человека, который занимает этот пост.
– А почему бы и нет? – нервно засмеялась Энн. – Он сам себя непрерывно огорчает.
Хэл нахмурился и дотронулся до ее руки. Она оказалась холодной, слишком холодной, в отличие от пылающего лица и блестящих глаз. Его глаза сузились, он повернулся и пристально посмотрел на нее.
– Энн… – начал он медленно.
– Все… все, я остановилась, – сказала она. – Я приняла всего лишь одну. Вполне достаточно, чтобы порхать как балерина.
Его тон стал жестче.
– По-моему, мы договорились… мы решили…
– Ты решил, – отрезала она. Затем более мягко: – Послушай, со мной все в порядке, Хэл, правда. Неужели ты думаешь, что я натворю что-нибудь после того, как мы зашли уже так далеко, стольким пожертвовали?
Вопрос повис в воздухе. В нем было нечто большее, чем простая риторика, хотя они оба давным-давно пришли к договоренности забыть про прошлое, никогда не говорить о том, какими разными могли бы быть их жизни, если бы…
Хэл поцеловал жену в лоб и заглянул в глаза, которые напоминали ему порой те, другие, с портретов великих импрессионистов Ренуара или Мане – большие и темные, сияющие… и чуть-чуть туманные, не обрисованные четко. На какой-то момент он отодвинул в сторону мысли о своей карьере и вспомнил ту далекую ночь, когда Энн впервые сказала ему о своей любви – а затем позвала его в постель с девственной страстью, которая приковала его к ней навсегда. В любви она стала его партнершей, его душкой-женушкой, его вторым «я». А в деле его карьеры они были как два метеора, оставляющих единый след, с одной-единственной благородной целью: продвигать вперед его карьеру без лести преданного слуги общества. По мере того как его политические цели осуществлялись одна за другой, Хэл чувствовал себя все сильнее, обходясь по шестнадцать – восемнадцать часов в день с малым количеством пищи и почти без отдыха, отвергая законы естества и работая за счет адреналина своих амбиций. Энн была для него самой большой опорой. С ее красотой, интеллектом и опытом в международных делах она звездой сияла во всех его кампаниях по выборам и никогда не упускала случая дать ему какой-нибудь ценный совет, когда они лежали рядом в постели. И теперь, несмотря на то что она все чаще стала прибегать к пилюлям, он поверил, что с ней все в порядке. Ему пришлось поверить этому…
Но так ли это на самом деле? Или его жена превратилась в бомбу замедленного действия, способную разнести вдребезги все мечты, которые теперь казались такими близкими?
Ограждаемая кагэбэшным эскортом, группа во главе с Хэлом проталкивалась в толпе, вымаливающей возле Большого театра лишний билетик с такой страстью, какую Энн редко доводилось встречать в Соединенных Штатах. Они торопливо прошли через отделанный мрамором и позолотой вестибюль театра и поднялись с одним из охранников наверх, в личные покои примы-балерины Натальи Симоновой.
Служащая театра, одетая в особую форму, приветствовала посетителей на сносном английском, объясняя, что мадам Симонова скоро к ним выйдет.
Стены передней были обтянуты красным велюром, а мебель показалась ей французской, хотя некоторые кресла были накрыты белой, без пятнышка, полотняной тканью, как в пьесах Чехова. На одной стене висело овальное зеркало, резной орнамент его рамы показался Энн приветом из царской эпохи.
Бросив быстрый взгляд в уборную балерины, Энн увидела зеркальную стену. Отражаясь в ней, балерина – высокая и неестественно тонкая – выполняла свои разогревающие упражнения. Она двигалась как породистая лошадь, мышцы напрягались под кожей, тонкое лицо казалось бесстрастным, а глаза миндальной формы застыли в концентрации.
Танцующая свой собственный балет хороших манер, ощущая порой себя в такой же опасности, как если бы она бежала на цыпочках по натянутой под куполом проволоке, Энн подумала о своем родстве с русской танцовщицей. Интересно, что она испытывает сейчас?
Боится ли так, как я, совершить какую-нибудь непростительную ошибку? Кажется ли ей каждый спектакль делом жизни и смерти, неважно, сколько блистательных представлений уже у нее за спиной? А может, все становится только хуже и каждый успех лишь приближает возможность провала, делает его все отчетливей и страшней?
Наконец появилась Симонова. Подобно царице, ведущей прием, она милостиво кивнула, когда люди из КГБ представили ей Хэла и Энн. Балерина протянула каждому из них изящную, узкую ладонь.
– Сегодня я буду танцевать для вас, – произнесла она по-английски, – отдавая дань вашему визиту в мою страну.
– Мы весьма польщены, – ответила Энн на чистом русском.
Удивленно моргнув, балерина на миг поглядела на них мягче. Энн доводилось видеть такие взгляды и раньше; это вознаграждало ее за годы упорной учебы. Однако ей было слишком хорошо известно, что упорный труд не обязательно увенчивается успехом. Это касалось как политиков, так и артистов.
Когда Хэл и Энн вошли в главную ложу страны, русский лидер, плотно сложенный мужчина, и его жена, привлекательная, продуманно пользующаяся косметикой дама, поднялись, чтобы приветствовать их. После того как были произнесены взаимные комплименты, Энн почувствовала, как хозяйка, одетая в платье цвета бургундского вина и в такой же бархатный жакет, скрупулезно рассматривает ее.
– Ваше платье, – поинтересовалась жена Главного, – от американского модельера?
– Да, – ответила Энн, пытаясь определить, приобретет ли их разговор о моде политический оттенок или окажется обычной болтовней двух женщин.
– У вас для такого платья подходящая фигура. Я не могу носить облегающие платья.
Ну и что? Дипломатический комплимент или сочувственное бормотание требуется от нее? Прежде чем она успела решить, русская дама нарушила молчание.
– Я купила свое в Париже, – сказала она с оттенком гордости.
Тут было уж легче.
– Очень милое, – похвалила Энн. – Оно сидит на нас превосходно.
Жена Главного улыбнулась. Вслед за этим, к счастью, стали меркнуть огни в зале, и когда оркестр заиграл знакомую музыку «Лебединого озера», театр наполнился слабым гулом предвкушения.