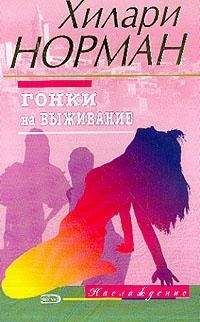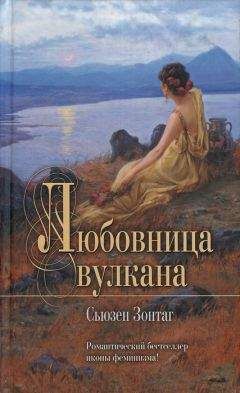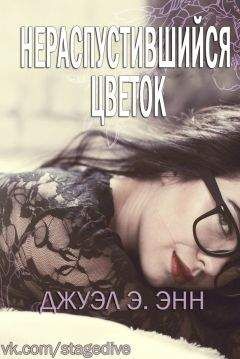Он замечал, как на глазах худеет его мать, а в ее пышных черных волосах все заметнее проступает седина. Отец вел себя все более странно; волосы у него на голове не седели, а исчезали, он совсем перестал улыбаться, обвисшие темные усы на бледном лице придавали ему вид печального моржа.
В сентябре 1938 года Даниэль получил письмо от Симона Левенталя из города под названием Кингстон, штат Нью-Йорк. Симон писал, что его отец теперь работает в местной больнице, что они живут совсем рядом с Нью-Йорком, самым большим городом в мире, что у него появились новые друзья, но он все еще скучает по Даниэлю.
Даниэль показал письмо матери и спросил, нельзя ли им тоже поехать в Америку, но она заплакала и порвала письмо, а потом снова склеила кусочки и сказала, что просит прощения. Она улыбнулась и объяснила, что они не могут уехать в Америку, хотя не стоит об этом жалеть: вскоре и у них все наладится. Но Даниэль видел, что она говорит неправду, просто чтобы его утешить.
– А не могли бы мы уехать еще куда-нибудь, если в Америку нельзя? – спросил он ее в другой раз. – Куда угодно, только чтобы не было нацистов.
Мама повернулась к нему спиной, и он понял, что она опять плачет, но потом она посмотрела на него, и в глазах у нее появился незнакомый ему яростный блеск.
– Я поговорю с папой, – сказала она и крепко обняла Даниэля. – Не знаю, куда нам ехать, но отсюда надо выбираться.
– Мне все равно куда ехать, Mutti [2], – умоляюще проговорил Даниэль, – но здесь мне не нравится! Поговори с папой, прошу тебя! Уговори его увезти нас отсюда!
Напуганная страстностью, прозвучавшей в голосе сына, мать попыталась его успокоить.
– Обещаю тебе, Даниэль, я поговорю с ним.
Мальчик вырвался из ее рук, его глаза потемнели от страха.
– Я боюсь здесь оставаться, – сказал он.
– Как мне убедить тебя, Йозеф? – спросила измученная спором Антония Зильберштейн. – Что еще должно произойти? Нам надо уезжать.
Она понимала, что ее Йозеф – хороший, добрый человек, но ему не хватало решительности характера, а по нынешним временам такой недостаток мог стать роковым. С того страшного утра три года назад, когда тихий, вежливый приказчик Вернер Франке самодовольной змеей проскользнул в его кабинет с листком бумаги в руках, предписывающим ему «придать магазину арийский характер», то есть отнять дело у хозяина, муж Антонии погрузился в мрачное и безнадежное отчаяние. Любой удар судьбы он принимал как нечто неизбежное и безропотно покорялся, даже не пытаясь что-либо предпринять.
– Ты же знаешь мое мнение, Тони. – Йозеф беспомощно пожал плечами. – Все, что у нас есть, находится здесь.
– Что у нас есть? Наш дом? Надолго ли? – Ее голос звучал рассудительно и тихо, но в глазах у нее была горечь. – Они отняли магазин. Почему ты думаешь, что они оставят нам дом?
Йозеф сурово нахмурился.
– Ты забываешь, что я немецкий патриот, Антония. Я сражался за свою страну на войне. Они этого не забудут. – Он упрямо сжал губы. – И чем же Берлин в этом смысле лучше Нюрнберга?
Антония покачала головой.
– Ничем. Ехать в Берлин уже слишком поздно. – Она помедлила. – Я думаю, нам следует отправиться к моим кузенам во Фридрихсхафен. Я уже написала и вчера получила ответ. Они могут нам помочь.
Йозеф встревоженно выпрямился в кресле.
– Каким образом?
– Из Констанса в Крейцлинген в Швейцарии – самый короткий переход через Бодензее, – Антония не сводила с него внимательного взгляда.
На миг на его лице промелькнула вспышка страха, тотчас же сменившаяся презрительной усмешкой.
– Ты сошла с ума, Тони, – решительно заявил Йозеф. Рот у него задергался. – У нас нет паспортов. Все наше имущество находится здесь, в Нюрнберге, в этом доме. У нас двое маленьких детей…
– Даниэль спит и видит, как бы поскорее уехать отсюда. Каждый день он умоляет меня поговорить с тобой, Йозеф, убедить тебя, что нам надо уехать.
– На случай, если ты позабыла, Антония, напоминаю тебе, что наверху живет твой искалеченный брат, неспособный самостоятельно сходить в уборную, не говоря уже о том, чтобы плыть в лодке через Бодензее…
В комнате наступило молчание.
– Я позабочусь о Леопольде, – тихо сказала Антония, прервав наконец мучительно затянувшуюся паузу. – Можешь не беспокоиться о нем. Мы с ним уже обо всем договорились.
Йозеф внезапно вскочил из-за стола. Кулаки у него сжались сами собой, лоб покрылся испариной.
– Послушай меня, Тони. Слушай внимательно. Твоя затея безумна. Я тебе уже говорил и повторяю: я немецкий патриот. У меня полный ящик медалей. Я люблю свою страну. Нацисты дойдут до определенного предела, но не дальше, поверь мне. Как только все уляжется, ограничения будут сняты. Никто серьезно не пострадает.
– Как насчет Лео? Разве он не пострадал?
– Твой брат вел себя как дурак. Хотел жениться на шиксе [3]! Я и без Гитлера знаю, что это грех.
Презрение сверкнуло в темных глазах Антонии. Она с такой силой затушила сигарету, что пепельница завертелась волчком. А потом ее гнев столь же внезапно угас.
– Это ты ведешь себя как дурак, Йозеф Зильберштейн, – проговорила она устало. – Я тебя прощаю только потому, что знаю: в обычное время ты ни за что не сказал бы мне ничего подобного. И несмотря ни на что, я люблю тебя.
Он стоял посреди комнаты, бессильно опустив руки и глядя на нее с мучительным стыдом.
– Но запомни мои слова, Йозеф, – продолжала Антония. – Очень скоро дела пойдут еще хуже, гораздо хуже. Поверь мне – скоро произойдет нечто ужасное. – Она подошла вплотную к мужу и заглянула ему прямо в глаза. Он отшатнулся. – И тогда тебе придется переменить свое мнение, Йозеф. А мне остается лишь молить бога, чтобы не было слишком поздно.
* * *
Девятого ноября Гизела начала жаловаться на боль в горле. В тот же вечер, пока в Нюрнберге и по всей Германии свирепствовали эсэсовские погромы, у девочки поднялась температура, но лишь вечером следующего дня их сосед, доктор Грюнбаум, смог к ним заглянуть.
– Скарлатина, – объявил он, осмотрев Гизелу. – Не могу сказать точнее, пока не появится сыпь, но сейчас по всей округе дети болеют.
– Сними пальто, Карл, позволь мне угостить тебя чаем, – предложила Антония. – У тебя измученный вид.
– Лучше кофе. Без сливок и побольше сахара.
Они прошли в гостиную, и Антония разлила по чашкам кофе из серебряного кофейника.
– Здесь, в доме, так спокойно – с грустью вздохнул доктор. – А мир за окном напоминает грязный свинарник. – Глаза у него были воспаленные, на скулах проступила щетина, пальто было испачкано кровью. – Сегодня у меня было пятнадцать вызовов, Тони. Пятнадцать наших друзей. Все они были избиты. Большинство из них пришлось выводить из шока.