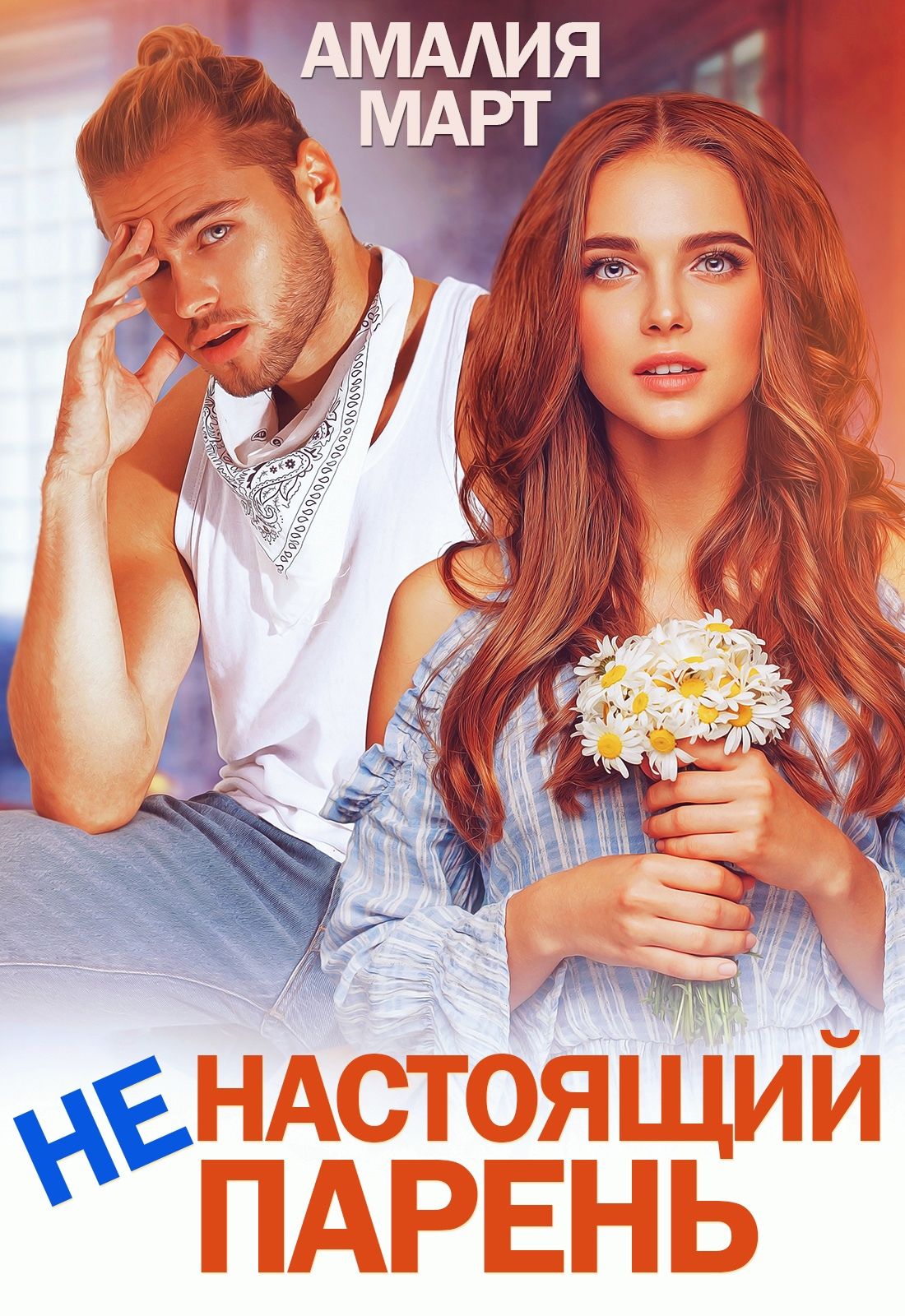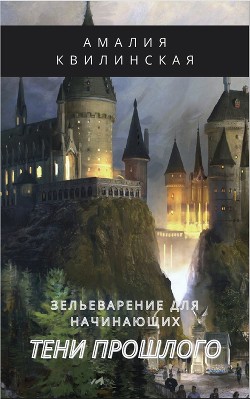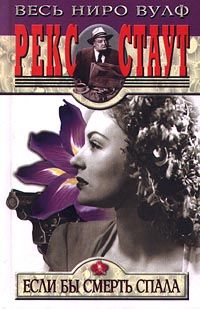огромный пуховик (вот и одеяло, которым меня прибило к земле) чувствую только ключи.
— Может в коляске? — спрашивает сердобольная женщина.
В какой еще коляске? Я что и правда инвалид??? Греция закончилась не страстным прощанием в постели грека, а сломанными ногами и травмированной башкой?! Жизнь кончена. Просто… кончена.
— Ой, малыш проснулся, — щебечет тетка.
Какой еще малыш???
Словно в ответ на мой вопрос, все тело скручивает от жалобного детского плача. Какая же безумная головная боль, боже, только чьих‑то детей здесь не хватает, чтобы добить меня.
— Ну‑ка, — начинает сюсюкать моя спасительница. — Посмотри, какая погремушка, — воздух разрезает убийственный шорох адского приспособления для младенцев.
Словно гречку в воспалённый мозг засыпают.
— Хочешь к маме? Да? А ко мне на ручки пойдешь? Мама пока не может подойти, у мамы бо‑бо, — опытными методами успокаивает неугомонного ребенка женщина.
Так, стоп.
Чья мама бо‑бо?
— Мама упала и бах! Но все будет хорошо, с мамой все хорошо.
Эм…
— Это не мой ребенок! — вмиг прорезавшимся голосом утверждаю я.
— Но как же?..
И хотя это тяжело, глаза неумолимо режет светом, перевожу взгляд левее, чтоб увидеть, что там за ребенок и с чего женщина взяла, что он мой. Маленький, щекастый, в огромном синтепоновом комбинезоне. Никаких признаков общей генетики. Это чей‑то левый пацан, я к нему не имею ни малейшего отношения! Может, я и не понимаю, как оказалась здесь среди снегов России, когда только что провожала лето в Греции, но одно могу утверждать смело: этот младенец не мог вылезти из меня.
Не‑а. Никак.
— Но я видела, как вы гуляете с коляской, — голосом работницы интерната для умственно отсталых, оповещает меня спасительница.
— Нет, — твердо говорю я, убежденная, что это бред.
Похищение инопланетянами звучит правдоподобнее, чем я, нарезающая круги с коляской.
— А, вы — няня, — наконец, выдвигается новая версия.
Мозг уже начинает плавиться от этой бессмыслицы. Он и так не чувствовал себя достаточно уверенно для диалога, а теперь просто приказывает срочно устроить перезагрузку всех систем, отрубить все мониторы и, возможно, слегка отформатировать диск. Чувствую, как глаза закрываются под тяжестью безумных событий и давящей боли и успеваю только решительно прошептать очередное «Нет».
* * *
Мне плохо. Сильно тошнит. Опять попалось ведро с гвоздями, а не хорошо амортизированный туристический автобус. Такими темпами скоро придется возить с собой специальные пакетики.
Я морщусь и крепче сжимаю веки, не понимая, почему все тело болит, как после Нью‑Йоркского марафона. Я же отдыхала. А, нет, я упала. Точно.
А ещё мне снился странный глупый сон…
На очередной кочке автобус подскакивает, и я издаю болезненный стон. Всё‑таки крепко я о старинные камушки приложилась. Хорошо, что в транспорт погрузили и куда‑то везут.
— Никос? — мне бы воды. Пить хочется ужасно. И тошнит. Сильно.
— В сознании, — звучит поставленный женский голос.
Не Никос.
Чувствую странное похлопывание по правой руке.
— Как вас зовут? — обращается явно ко мне.
— Марина, — открываю глаза, темно. Из маленьких окошек автобуса льется рассеянный свет уличных фонарей, и я жмурюсь. Неприятно. Но успеваю рассмотреть медика.
Хорошо, что обо мне позаботились. Но черт его знает, как тут с этими делами для туристов.
— Страховка, — выходит хрипло. — В рюкзаке.
— Марина, грудью кормите?
Что за странный вопрос? Может у них тут это стандартный опросник для таких, как я, неудачниц, что летят с вековых лестниц башкой вниз? Кстати, вполне понятно, почему голова ощущается расколотой вазой.
— У меня трещина? — вместо ответа, спрашиваю.
— Что она сказала? — обращается к кому‑то врач.
— Бредит, путает языки, давай адреналин ставить, иначе в сознании не довезем, — доносится мужской голос.
— А если кормящая?
— Значит, закончит кормить. Главное довезти.
Я решительно ничего не понимаю. Хочу задать миллион вопросов, но сознание путается. Я то греюсь под солнцем Санторини, то лежу на холодной земле Москвы. И плач. Везде мерещится взрывающий голову детский плач.
Руку болезненно перетягивает жгутом, мне знакомо это ощущение, сколько анализов я сдаю перед каждой поездкой. Укол почти не чувствую, только как сердце начинает часто‑часто колотиться. Пульсирует в груди, в висках, даже в горле.
— Марина, что чувствуете?
— Сердце колотится, — разжимаю пересохшие губы. — Пить хочу. Тошнит, — перечисляю симптомы.
— Вадь, у нас вода есть?
— Тут в коляске бутылочка, подойдёт?
Коляска, коляска, коляска… Пытаюсь уцепиться за эту мысль. Но она тает на кончике языка, на который попадает спасительная жидкость.
— Как же тебя угораздило так? — заботливо спрашивает женщина‑врач, помогая мне напиться воды.
— Упала, — болезненно выдыхаю.
— Ну ничего, сейчас доставим вас в приемное, подлатают. Жить будешь.
Кого «вас»?
— Мужу‑то позвонить, наверное, нужно, беспокоиться будет.
— Нет мужа, — сглатываю.
Такие нетактичные вопросы могут задавать только в России. Я ни черта не в Греции. Я ни черта не упала. Странный сон о сугробах и младенце — не сон.
Сюр какой‑то.
— Ну, набери кому надо.
На живот ложится телефон, я машинально сжимаю его пальцами. Что‑то не так, он некомфортно ложится в руки. Я замечаю это, потому что мир становится четче. Мне лучше, я уже не «плыву» в пространстве, а подмечаю детали.
Я не в автобусе. Это отечественная газелька Скорой помощи. Сейчас ночь. Хотя нет, вечер, судя по тому, что в прошлый раз я открывала глаза посреди бела дня. У меня болезненная травма на голове. Неизвестного происхождения. И я понятия не имею, как, черт возьми, здесь оказалась.
Кручу телефон в руках, включаю,