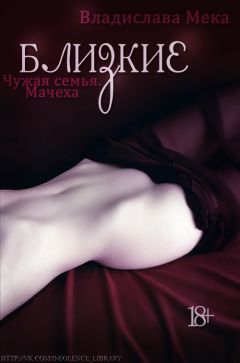— Все в школе расскажу на перемене. Давай, пока.
Она бежала весь километр от дома до школы, ничего перед собой не видя. Ноги сами несли ее по улице, а потом по школьному двору, а потом по коридорам, заполненным удивленно провожающими ее взглядами учениками и учителями, на второй этаж, туда, где вот-вот должен был начаться урок иностранного языка у «англичан», к которым принадлежали Лаврик и Егор.
Сама Ника была «немка», и их урок математики шел на первом этаже. До звонка оставалось пять минут. Она должна была успеть, или умрет от беспокойства и тревоги.
Егор стоял у окна, вежливо улыбаясь Эмилии, которая была, как Нике вдруг показалось, слишком близко к нему и слишком напирала на него грудью, едва ли не вжимаясь в плечо. Заглядевшись, Ника споткнулась и едва не полетела на пол, но каким-то чудом удержалась на ногах и понеслась дальше. Чертыхаясь и тяжело дыша, она добежала до Егора и остановилась, не в силах вымолвить и слова, но зная, что он все поймет и так.
Эмилия как будто сразу испарилась. Ника так и не вспомнила, ушла она тогда или так и стояла и слушала их разговор — ей было все равно, ей всегда было все равно рядом с ними двумя.
— Я это... — Ей, как всегда, не удавалось начать сразу и правильно, а тут еще сползший с плеча ремень сумки, который она, одновременно пытаясь отдышаться, поправляла, но так неловко, что тот все время сползал снова. — Это... я...
— Да, — сказал Егор, мучая ее нежеланием прийти на помощь и непроницаемым выражением лица. — Это ты.
— Ну Егор... Это... Скажи же мне.
Но он уже, не выдержав, улыбался, и это значило, что все хорошо, и от сердца у Ники отлегло, хоть и не совсем.
— Он в хирургии. — Егор не стал томить; видел, что Ника волнуется. — Вечером вчера увезли, а операцию ночью сделали. Разрез вот от сих и до сих, а так ничего страшного. Не переживай.
— Ничего страшного! — возмутилась Ника, все еще пытаясь поправить соскальзывающий ремешок сумки, а сердце уже пустилось вскачь от облегчения, и слезы подступили к глазам. — Я вам покажу «ничего страшного», когда он выйдет! Вы же меня до полусмерти напугали! И особенно ты!
Она ткнула его пальцем в грудь.
— Ты должен был позвонить мне сразу же!
— Так была уже ночь-полночь, — попытался оправдаться он, но Ника снова ткнула его пальцем в грудь, и, слыша, как взвивается наполненный обидой и волнением голос, Егор сдался и позволил ей то, чего не позволял никому другому: укорять себя, называть себя дураком, заявлять, что их дружбе придет полный и окончательный конец, если когда-нибудь они еще раз ее так предадут.
— Ой... Ему же под наркозом делали, да? Не под уколами? — Нике вдруг представился бледный Лаврик, лежащий на операционном столе с разрезанным животом, и она сама почувствовала, как кровь отливает от лица.
— Ага, под общим, — сказал Егор. — Сделали бы под местным, но сказали, слишком долго наш Лаврик храбрился. Еще немного — и была бы перфорация. Сказали, аппендикс прямо на операционном столе и лопнул.
— И Лаврик тоже дурак, — сказала Ника с чувством под прозвеневший звонок. Ей нужно было бежать вниз, к «немцам», но всегда так трудно было уйти от этих двоих сразу, без еще хотя бы пары слов и пары мгновений отсрочки, и она не удержалась и сейчас. — А ты пойдешь к нему?
— Завтра. Сегодня он не встанет. — Они оба знали, что Ника не попросит, поэтому Егор предложил сам. — Хочешь, вместе с тобой пойдем?
Ника больниц боялась. Да она всего боялась, если с ней не было рядом кого-то из тех, кому она доверяла. Егору она доверяла, и он знал все о больницах, потому что сам будет врачом. С ним было не страшно.
— Хочу, — сказала она радостно, и тут же вспомнила о том, что сегодня они втроем думали пойти в парк напротив школы и покататься на чертовом колесе перед самым его закрытием.
Теперь точно не успеют. До закрытия осталась неделя, а Лаврика вряд ли выпустят из больницы так быстро. А она так хотела покататься, впервые в жизни попробовать, держа их за руки, перебороть этот страх высоты...
Мимо них на каблуках процокала учительница, и Егор и Ника одновременно сделали друг другу большие глаза, когда поняли, что оба получат нагоняй.
— Меня же «немка» убьет! — пискнула Ника, бегом бросаясь прочь по пустому коридору.
— Ник, в семь на колесе! — сказал он ей вслед, и почему-то при мысли о том, что сегодня они с Егором впервые пойдут куда-то вдвоем, без Лаврика, в животе у нее образовалась пустота.
Они хохотали, как ненормальные, сидя в кабинке, и подначивали друг друга страхом высоты, поднимаясь на колесе все выше и выше. Ника была белая как снег и не отпускала руку Егора ни на секунду, но когда он, всерьез перепугавшись за нее, перестал поддразнивать и начал успокаивать и уговаривать не смотреть вниз, фыркнула и сказала, что вообще не боится.
Она поднялась с сиденья...
— Так, — сказал Егор торжественно. — Маленький шаг для человека, большой шаг для человечества...
— Да хватит тебе, — засмеялась Ника, но сделать даже этого маленького шага не смогла и плюхнулась обратно. Слишком трусила.
Они пошли к Лаврику на следующий день. Он был им рад, и говорил с ними обо всем, и был тронут слезами на глазах увидевшей его Ники — а он и был таким, каким она его себе представила вчера: бледным, каким-то худым и особенно остроносым. Она даже не удержалась и поцеловала его в щеку, когда уходила. И все же по какой-то странной договоренности ни Егор, ни Ника не рассказали и даже не упомянули о том, что ходили на колесо без него.
Они пошли тем же вечером снова, а потом и на следующий вечер, и Ника все-таки встала и сделала этот «маленький шаг для человека», и они смеялись и дурачились еще больше. А потом как-то оказалось, что оба молчат и смотрят на вид, раскинувшийся внизу, и голова Ники лежит у Егора на плече, и ей совершенно не хочется, чтобы все это кончалось.
А потом пролетела неделя, и Лаврика выписали домой.
Они забежали к нему в гости вдвоем, сразу после школы. Мама Лаврика, красивая и надменная грузинка Заза Гедевановна, врач-гинеколог, усадила их за стол, потчевала всякими вкусностями и, как обычно, довольно кивала, слушая Егора, блиставшего медицинскими знаниями.
— Мой отец тоже был врач, как и дед, — поведала она Нике еще в самое первое знакомство. Отца Лаврик не знал и упоминать о нем при его маме было запрещено. Ника не упоминала. — Благородная профессия, и мы надеемся, что и Лаврик продолжит...
— Нет, мама, — перебил ее Лаврик, упрямо сдвинув темные брови, и Нике даже стало слегка не по себе от взгляда, которым обменялись мать и сын. — Лаврик не продолжит.
Егор хотел быть врачом, Лаврик — бизнесменом, а Ника... Ника трусила. Озвучивать маме мечты о консерватории было стыдно и страшно, да не так уж хорошо она и пела, да и экзамены там были трудные, да и вообще как-то это глупо — связывать свою жизнь с тем, чем не всегда можно заработать на кусок хлеба.
А вдруг не получится?
— Уж вечер, облаков померкнули края... — заводила Ника в своей комнате тихонечко, но голос рвался и дрожал, и спустя какое-то время она прекращала петь и начинала вдруг судорожно проглядывать списки институтов, придумывать и вычислять, куда бы она могла пойти.
— Ох, — говорила ей мама. — Да не волнуйся ты так, все образуется. Я за отца твоего вышла замуж и бросила училище, и ничего, не жалею. Главное — удачно замуж выйти. Когда муж — каменная стена, вот что главное...
— Да мама, хватит, — ворчала Ника. — Рано мне еще замуж. Не хочу.
— Рано ей. Это на словах вы все ранние, а потом раз — и родила в восемнадцать лет...
Мама вглядывалась в ее лицо.
— Но ты бы мне сказала, если бы у тебя...было? — Ника делала большие глаза. — Если хочешь, поговорим...
— Я даже не целовалась еще. — Ника не любила такие разговоры, потому что они будили в ней мысли, за которые было стыдно, и потому старалась от них уйти. — Мам, не надо со мной быть «прогрессивной», ладно? Я все уже из книжек знаю.