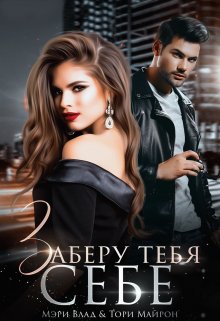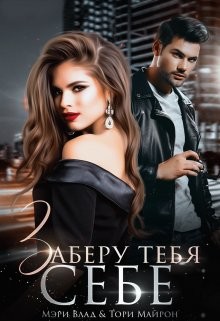— Очень приятно! — признаюсь от души. У этой женщины сложный характер: она прямолинейна, зато никогда не станет лукавить и вредить исподтишка. Больно приложит, но искренне пожалеет. И заслужить ее расположения действительно дорогого стоит.
Юра разливает чай и, словно каменное изваяние, зависает над столом.
— Юра, ты изменился. Такой взрослый! — она восхищенно смотрит снизу вверх и перенимает у него чашку. Точно такую же он галантно ставит передо мной, садится и снова откидывается на спинку стула.
— Рад, что ты это поняла. Лучше поздно, чем никогда...
— И Кира мне нравится! — мать не обращает внимания на его язвительную реплику. — Когда она ответила консьержке, я на минуту подумала, что ты сошелся с той ведьмой. Аж плохо стало!
— Мама, умоляю тебя: не надо! — Рявкает Юра. Женщина бросает на меня быстрый взгляд и замолкает, быстрый настороженный взгляд я ловлю и от Юры.
Повисает немая сцена, действующие лица, обжигаясь, пьют мятный чай.
— Юр, а... зачем эти татуировки? — Маргарита Ивановна снова не выдерживает. Он скрипит зубами, но не поднимает глаза, на точеных скулах предательски выступают бордовые пятна.
Ни черта не смыслю в развернувшейся драме, понимаю только, что являюсь тут лишней, и ничего полезного сделать для этих двоих не смогу. Молчу и считаю чаинки, медленно опускающиеся на фарфоровое дно.
Щеки женщины тоже пылают, и она переходит в наступление:
— Ты же не сможешь жить тут долго. Это занятие не будет приносить доход всю жизнь. Когда вернешься домой?
— Никогда, — отрезает он, явно заводясь, но мама перебивает:
— Юра. Ну не считаю я, что ошиблась! Вернись все, я бы и сейчас поступила точно так же. Столько времени прошло! Просто знай: я всегда тебя жду! — у нее трясутся руки, но Юра заправляет за уши густые волосы и как ни в чем не бывало дует на чай:
— Мам, тебе пора.
Она тяжело поднимается и шагает к выходу, и провожать подрываюсь только я.
Мне жаль ее, в груди вскипает злость на этого придурка. Хочется врезать ему, чтобы привести в чувство, наорать или крепко послать.
— Ты хорошая девочка, Кира! — Маргарита Ивановна склоняется надо мной и тихонько шепчет: — Вы давно вместе?
Ненавижу себя за то, что опять приходится врать, но ложь во спасение иногда бывает полезной.
— С мая... — Отделываюсь полуправдой. Ведь именно с мая мысли о Юре, как наваждение, преследуют меня.
— Не бросай его. Он заслуживает лучшего... — просит его мама напоследок, и я смущенно улыбаюсь. Но, как только лифтовая кабина ныряет вниз, сжимаю кулаки и влетаю в столовую:
— Что это было, твою мать?! Ты и правда бездушный конченный мудак?!
— Зачем ты ее вообще впустила?! Я три года ее не видел, и мог бы не видеть еще столько же! — орет Юра, и у меня щиплет глаза. Но, если распущу нюни, так и не узнаю подробностей и ничем ему и не помогу.
— Почему?!! — ору еще громче, и Юра сбавляет обороты.
— Искренне считаю, что она испортила мне жизнь. Все.
— Почему? — наседаю я, и он цедит сквозь сведенные челюсти:
— Если бы не она, ее непреклонность и дерьмовое отношение к людям, все могло бы быть по-другому.
Опускаюсь на осиротевший стул напротив и подпираю подбородок ладонью. Я бы встряхнула его, задушила в объятиях, если бы только он меня к себе подпустил...
— Юр... — зову. — Сослагательных наклонений у жизни не бывает. Осади, если лезу не в свое дело, но вам нужно помириться. Она... нормальная. У меня есть только отец, и он тупо бухает. Бухает беспробудно, и совсем не переживает за меня. А мама была ужасной: жила фантазиями и страстями, продиктованными поехавшей крышей. Ей было на все наплевать. Но, знаешь, Элина малость покопалась в моей голове, и на своем примере объяснила, что нужно ценить и беречь то, что имеешь. И теперь... я бы простила маме все. Если бы она вдруг ожила и оказалась рядом. Сам понимаешь, этого не случится. А твоя мама рядом. Она... всегда поймет и услышит.
Острый взгляд волшебных глаз на миг прожигает насквозь, а потом Юра опускает голову:
— Кир, пожалуйста. Можешь оставить меня?
* * *
С ощущением полнейшей катастрофы падаю на кровать, подползаю к изголовью и притягиваю за лямку рюкзак. Достаю крючок и пакетик с клубками, и, удивляясь, как все еще не провалилась до самого подземного паркинга от лютого стыда, принимаюсь вязать. Но фигурки выходят неуклюжими, откровенно уродливыми, никчемными, как и я сама.
Да, время от времени я воображаю себя знатоком человеческих душ. Но мои пламенные речи не работают: не получилось убедить даже папу, что уж говорить о взрослом парне, о котором я ничего не знаю!
Кажется, я ляпнула лишнего, и он точно меня не простит.
Малиновый закат заглядывает в сводчатые окна, заливая все вокруг тоскливым холодным заревом. За дверью шаркают шаги, после короткого стука Юра врывается в комнату и, на ходу натягивая черное худи, бодро подмигивает:
— Пошли, воздухом подышим? — он проводит ладонью по стене, открывает доселе невидимый бар и достает из его зеркальных недр очередную бутылку. Бросаю вязание, подпрыгиваю и, набросив верный олимпос, спешу в столовую:
— Отличная идея. Я сейчас! — хватаю тарелки с нетронутым тортом и сияющие, явно серебряные вилки, и возвращаюсь. Раскрываю пошире огромную раму и оказываюсь на крыше.
Порывы ветра, гуляющего на высоте, невесть откуда приносят запах далекого моря, ранней осени, вечности и тоски, задирают платье, пронизывают насквозь тонкую ткань одежды.
Под навесом обнаруживаются пластиковый стол, сервированный пустой пепельницей, и пара плетеных дачных кресел — Юра уже занял одно из них и, вцепившись в подлокотники, отрешенно обозревает дали.
Без спроса сажусь на второе, расставляю тарелки, вручаю ему вилку:
— Давай. Несмотря ни на что, торт этого не заслужил.
— Чего: этого? — теперь темный эльф задумчиво рассматривает меня: испытывает на прочность, насылает морок, и я, глупо хихикнув, поясняю нестройный ход мыслей:
— Пропустить сразу два дня рождения и, не выполнив своего главного предназначения, сгинуть в мусорке.
Юра на миг прищуривается, смотрит в глаза и сквозь них проникает в самую душу... А потом его прекрасное лицо озаряет улыбка, от которой даже в лютый мороз расцветают цветы.
— Окей. Давай. Мы сегодня ни черта и не ели! — он поддевает кусочек торта и отправляет в рот — изящно настолько, что щемит сердце. Гребаный аристократ...
Желудок сводит от голода, и я быстро приканчиваю свою порцию. Облизываю зудящие растерзанные губы, под горло застегиваю олимпос, запрокидываю голову и долго-долго вглядываюсь в бездонные розовые небеса с белыми крупинками еле заметных звезд.
Оттуда, с земли, их точно не видно. Их видим только я и он...
— Юра, чтобы ты знал... — глотаю выросший в горле ком и предпринимаю попытку сближения номер сто пятьдесят. — Я не хотела тебя обидеть. Просто невыносимо смотреть на твои мучения. И на тебя! Если ребята не здесь, не с тобой, значит, готовятся к туру. Ярик пошел на это только потому, что ты пообещал начать новую жизнь. Так оставляй все в прошлом и начинай!
Юра откладывает вилку, присасывается к бутылке, отставляет ее на столик и усмехается:
— Они тебе нравится, да?
— Да. Особенно Ярик и Эля. Потому что они открытые, искренние, добрые, отзывчивые. Знают, что такое боль, но смогли ее... подчинить. Живут с ней и чувствуют, но не дают ей определять свою судьбу.
— Согласен, Оул и Элька — уникальные. Гениальные. Чувствительные. Тонкие. Сильные. Обоих не принимал мир, оба пытались наложить на себя руки. А я... слабый, — Юра снова прикладывается к бутылке и, глядя в небеса, признается почти невидимым звездам: — Отец ушел, когда мне было восемь. Живет в том же районе, где мать, ходит на работу теми же путями, но демонстративно не здоровается: мы для него чужие. С матерью давно не общаюсь: веду себя ровно так же, как он, но на то есть причины. Это она рассорила меня с... женой. Поклялась, что вместе мы не будем, и приложила к этому все силы. Три года назад я ее послал, и простить не могу. Постоянно чувствую себя никчемным ничтожеством, бухаю как не в себя, жру антидепрессанты. И я бы хотел со всем покончить, но не имею права подвести тех, кто на мне завязан. Вот так. То ли я слабак, то ли моя боль — не боль...