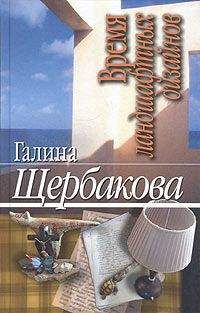Ознакомительная версия.
Я сажусь рядом и обнимаю девочку.
– Нет, – говорю. – Это не нелюбовь. Просто она не жила с тобой. Знаешь, люди прорастают друг в друга, немножко становятся тем, с кем живут. Как мы с тобой. У тебя заболит горло – и у меня тут же вспухают гланды…
– Это инфекция, – говорит умная девочка. – Вирус.
– Любовь – это тоже немножко вирус. Но я это называю прорастанием.
– Глупое слово. Растительное. Люди не трава.
– Немножко трава, – смеюсь я. – Немножко земля. Немножко камни. Немножко деревья. И множко, множко вода. Мы еще с тобой об этом поговорим.
Я целую ее и мчусь к маме. Меня интригует фальцет в ее голосе.
Она на себя не похожа. Глаза в пол-лица и брызжут светом. Щеки бледные, но не больной, а нежной бледностью. Одним словом, передо мной хрупкая молодая женщина, а не ворчунья-пенсионерка в теплом платке и с дрожащими пальцами. В голову приходит страшное: так выглядит красота предсмертья. Например, чахотка в поздней стадии, при ней всегда на щеках розы. Но откуда у старой женщины чахотка? Мне стыдно крайности своих мыслей, и я говорю то, что вижу: ты выглядишь потрясающе, надо так всегда, а то вечно канючишь: «Плохо, плохо!», а сама носишь в секрете такие глаза.
– Всему есть объяснение, – тихо говорит мама. – Со мной случилось нечто . – Она произносит это слово так, что я понимаю: пишется оно не просто с большой буквы. А плакатным шрифтом, а еще лучше – древней красавицей вязью. Вот оно нарисовалось, это слово, и манит, манит меня в себя. Нечто.
Мы садимся на диван, но не каждая в свой угол, как обычно, а почему-то рядом, тесно, и мама – абсолютно для нее непривычно – берет меня за руку.
– Ты знаешь, я поздно вышла замуж и поздно тебя родила. Дети, как правило, не допускают, что, кроме них, в жизни родителей была и другая жизнь.
– Я допускаю, – говорю я. В голове прокручивается вся информация о маме, но ничего, кроме кончила школу, институт, работала, встретила папу, родила меня, не возникает. Я, видимо, идиотка, если ничего не знаю про мамины восемнадцать, двадцать и двадцать пять лет. Никогда, никогда в доме не говорилось о молодости родителей.
– Ты хоть и продвинутая, как теперь говорят, но вряд ли бы что узнала, нечем было хвастаться. Одни слезы. Если бы, если бы… – Мама сжимает руки в два крошечных, почти детских кулачка. – У меня в школе был мальчик. Ты сейчас скажешь: у всех был мальчик, девочек без мальчиков не существует. Это правда. Мы собирались пожениться после десятого и потом уже вместе поступать в университет. Но он был не простой мальчик, он был ребенок родителей, постоянно работающих за границей. То ли в торгпредстве, то ли в посольстве, а может, вообще его папа был шпионом. Мне это было настолько безразлично, что я даже не спрашивала, где конкретно, – лишние вопросы задавать было не принято. После школы родители устроили ему поездку в Париж и Рим. Он так не хотел, ты не можешь себе представить. И я не хотела тоже. Я говорила, что поездка в Сочи или теплоходом по Волге ничуть не хуже. Но его папа приехал специально, и они улетели. Как бы на две недели. А потом там случилась какая-то история, что они – вся семья – отказались возвращаться. Их клеймили в газетах, но я мало что понимала. Я заболела так, что меня уложили в клинику нервных болезней. И я лежала там почти год. Потом год приходила в себя. Ни в какой университет я уже не поступила, а пошла туда, где не было конкурса и куда хватило бы моих траченных болезнью знаний. Надо было жить, скрывая две тайны: связь с предателем родины и пребывание в специфическом лечебном учреждении. Я поседела в двадцать два года. Я так замаливала грехи своей жизни перед соотечественниками, которым не пришло бы в голову уехать за границу из самой лучшей на земле страны! Это же какую совесть надо было бы иметь? Но главное было в другом – я продолжала любить Володю, и я его ждала. Я мечтала, чтоб он там совершил какой-нибудь подвиг во имя своей родины, и ему бы разрешили вернуться как герою. Лет пять или, может, даже семь я маялась этой дурью. Сегодня он мне позвонил, Инга. Он приехал без всякого подвига, туристом, хочет меня увидеть. Через сорок с лишним лет. У него не изменился голос. И он назвал меня «Таля». Это наше с ним имя. О Господи! Как же быть? Как я ему покажусь? Не опасно ли это для тебя? И зачем, Господи, зачем?
Она вся дрожит, моя мама. Я обнимаю ее крепко-крепко и говорю, что сорок прошли и для него. А она, мама, выглядит просто замечательно.
Почему-то это я говорю во-первых. Страх опасности для меня я отбрасываю ногой. «Мама! Столько людей вернулось. Несчетно ездят туда-сюда, туда-сюда».
– Нет, – шепчет мама. – Ты не понимаешь. У меня вздрогнуло сердце. Это мне не нравится, доча. Так не должно быть. Все забыто, все прошло, и неправильно биться сердцу. Стыдно…
– Это замечательно, – говорю я. – Ты живая, и у тебя живые эмоции.
– Я боюсь, – отвечает мама. – Боюсь.
– Ну, давай все разложим по полочкам. – Я ведь умная, я все знаю. Сейчас я буду учить глупую старую коммунистку. – За сорок лет и у тебя, и у него была жизнь. Вы встретитесь и посмотрите на нее, как с высокой горы. И вспомните, как когда-то стояли вместе у ее подножья. (Фу! Какая пошлость!) Только не вздумай касаться предательства и прочей хрени. Родители увезли мальчика, он ни при чем. И не рассказывай о своей болезни. Сохраняй достоинство. Мол, поплакала – и забыла.
– Я не забыла, – говорит мама.
И тут уже у меня ёкает сердце. Я думаю о папе. Моем нежном и добром, обделенном любовью папе. Секундно я даже не люблю маму, гневаюсь за это ее признание. Но спохватываюсь, и невероятная жалость к ним обоим – папе и маме – охватывает меня до слез, чуть не до вскрика. Держусь, как партизан на допросе. Перевожу тему на конкретные вещи, до чего договорились, где и как.
Свидание у мамы завтра. Перепуганная, она пригласила его к себе, боясь общественных мест. «Я отвыкла быть на людях. Я боюсь».
– Ты можешь прийти как бы случайно? – спрашивает она.
– Зачем? – не понимаю я. – Мама! У тебя свидание. Это же прекрасно. Ведь не кузина Кузина приезжает, с которой тебе всегда не о чем говорить.
– Инга! Я боюсь. Боюсь этой встречи. Боюсь немоты. Мне нечего ему сказать. У меня не случилось жизни-самобранки, которую я могла бы развернуть перед ним. У меня ничего хорошего не было, кроме папы и тебя. Папы уже нет. Ты должна прийти. Ты мое оправдание, моя победа над его предательством.
– Мама! Если ты впадешь в эту высокопарность, тебе уж точно не спастись. Наверняка у него тоже есть дети, будете трясти фотографиями, и он тебя победит качеством снимков. Он не для этого идет к тебе. Ничего не надо ему доказывать, просто выпьете чаю, вспомните детство. Мама! Это не страшно. Это радостно.
Ознакомительная версия.