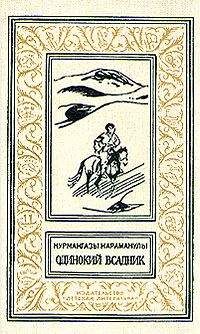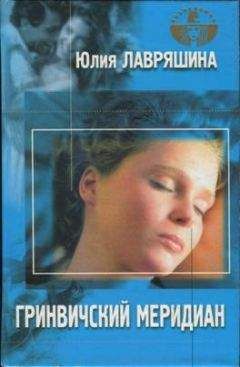– Вы должны гордиться собой, Элизабет. Вы это заслужили. Дэниэл склонился к ней. Она чувствовала, что сейчас он ее поцелует. Сердце бешено стучало у нее в груди.
Его губы коснулись ее губ. От Дэниэла пахло кофе. Она обняла его за шею и сильнее прижалась к нему.
И... ничего не произошло. Никаких фейерверков, земля не ушла у нее из-под ног.
Дэниэл отпустил ее и, нахмурив брови, спросил:
– Ну что, искры не пробежало?
Элизабет и сама была удивлена:
– Дело в том, что я, оказывается, более серьезно замужем, чем полагала.
– Жаль, но тут ничего не поделаешь.
Дэниэл встал и подал ей руку. Они перешли улицу и снова направились к галерее.
До Элизабет слишком поздно дошло, куда он ее ведет. Она попыталась остановиться.
– Ну правда же, Дэниэл, для меня это все равно что пойти на виселицу.
– Тогда вам остается только сунуть голову в петлю – ведь многие художники именно так заканчивают свою жизнь. – Он улыбнулся: – Я ожидаю от вас, Элизабет Шор, больших свершений. Давайте же, идите наконец туда, где вам место.
Мардж была очень рада, что Элизабет вернулась.
– Я не хотела возвращаться. – Взглянув на дверь, Элизабет увидела, что Дэниэл уже ушел. – Какая же я все-таки трусиха, – пробормотала она себе под нос.
– Знаешь, художникам всегда трудно приходится на выставках. Я должна была тебя об этом предупредить.
– Трудно? – переспросила Элизабет. – Трудно хорошо приготовить голландский соус. А выставить свои работы – это похоже на кому, когда находишься между жизнью и смертью.
Элизабет еще какое-то время провела в галерее, наблюдая за туристами. В конце концов ее терпению наступил предел. Последним, на что она бросила взгляд, когда они с Анитой уходили домой, была стена с ее некупленными работами.
Джек из окна своего кабинета смотрел на улицу. Стоял прекрасный весенний день, который должен был стать самым великим днем его жизни. Двадцать четыре часа назад Джеку предложили лучшую работу на телевидении – должность ведущего воскресной футбольной передачи.
Об этом моменте он мечтал много лет, но теперь, когда этот момент наконец настал, Джек странным образом не чувствовал эйфории.
Дверь в кабинет с шумом распахнулась.
– Ах, вот ты где, – сказал, входя, Уоррен. – Я слышал, тебя будут фотографировать для журнала «Пипл».
– Я, скорее всего, буду самым старым в номере.
Уоррен нахмурился:
– Что-то с тобой происходит. Пойдем развеемся.
Джек взял плащ и направился за Уорреном. На улице они не сговариваясь направились в бар «У Келли».
– Двойной виски со льдом, – сказал Уоррен барменше.
Девушка вопросительно посмотрела на Джека в ожидании заказа.
– Содовую с лаймом.
– Вот теперь-то я на все сто уверен, что с тобой что-то не так, – сказал Уоррен. – Ты – и вдруг берешь содовую?
– В последнее время я слишком много пил. Это мешает мне читать текст. – Джек помолчал, а потом добавил: – Мне предложили вести воскресную передачу «Национальная футбольная лига».
Уоррен удивленно на него посмотрел:
– Такое предложение делают раз в жизни. Радоваться надо. А ты сидишь, пьешь газировку и чуть ли не плачешь.
Не в характере Джека было делиться личными переживаниями, но одиночество до смерти измучило его. Да и кто, как не трижды женатый Джек, мог сейчас дать ему хороший совет.
– Мы сказали дочерям, что решили на время расстаться.
– Сочувствую. Как они это восприняли?
– Плохо. Плакали и ругались на нас. А потом уехали в колледж. С тех пор у меня от них никаких вестей.
– Это пройдет. Со временем они со всем смирятся, привыкнут к новой семье. Уж ты мне поверь!
– А что, если я тоже не могу смириться с этой ситуацией?
– В каком смысле?
– Я скучаю по Птичке.
Вот Джек и произнес это вслух.
– Ты напрасно променял Элизабет на эту свою новую пассию. Ты думал, что эта новизна, страсть и есть настоящее чувство. Но на самом деле главное – это чтобы женщина любила тебя таким, как ты есть. Тебе не следовало уходить от Элизабет.
– Это она от меня ушла.
– Птичка сама ушла от тебя?
– Наша с ней жизнь постепенно превратилась в кошмар. Не могу точно сказать, когда это произошло. Хотя началось все с того времени, когда я не смог больше играть в футбол. Я тогда только и думал о том, сколько я потерял. Я был совсем молодым, когда мы поженились, и не успел толком насладиться славой. – Джек вздохнул и продолжил: – Долгие годы я мечтал снова добиться успеха. И вот благодаря тебе появляется эта работа, и теперь я снова на коне. – Джек горько усмехнулся. – Я свободен, богат и знаменит. Я могу делать все, что задумал.
Элизабет не хотелось вылезать из постели, но как можно было удержаться от такого соблазна? Она со вздохом встала и оделась.
Внизу она уселась на диван рядом с Анитой. Ящик стоял на журнальном столике.
Элизабет смотрела на него и представляла себе, что вот сейчас его раскроет и там окажутся фотографии, какие-то мелочи, принадлежавшие ее маме. Она повернулась к мачехе, ожидая от нее объяснений.
– Я привезла его с собой, – сказала Анита. – Я знала, что наступит такой момент, когда ты будешь готова заглянуть внутрь.
Анита пыталась улыбаться, но улыбка получалась вымученной и только выдавала то, насколько она взволнована.
– Твой папа любил тебя больше всех на свете, – проговорила она.
– Я знаю.
Анита взяла ящик, и когда она передавала его Элизабет, та заметила, как дрожат у мачехи руки.
Внутри была перетянутая резинкой пачка фотографий с острыми зубчиками по краям, а еще – картонный тубус.
Сначала Анита достала фотографии. На первой была мама Элизабет. Она сидела на качелях на крыльце в розовых брюках и блузке с короткими рукавами.
Она смеялась. Не улыбалась, не позировала, а весело смеялась.
Она выглядела такой живой!
– Какая она красивая! – сказала Элизабет.
– О да!
На следующей фотографии была уже другая женщина – незнакомая Элизабет со сверкающими, темными глазами и черными кудрявыми волосами. Она была похожа на итальянскую крестьянку – полная противоположность ее маме.
На других фотографиях тоже была запечатлена эта женщина. На пляже, на крыльце, на ярмарке.
Элизабет была разочарована.
Наконец она взяла тубус и раскрыла его. В нем оказался свернутый в трубку холст. Элизабет разложила его на столе.
Это был портрет черноволосой женщины, в очень изящной манере выполненный яркими акриловыми красками. Женщина полулежала на красных подушках, ее длинные густые волосы беспорядочно рассыпались по сторонам. Она была обнажена, и только бледно-розовый платок прикрывал ее полные бедра.