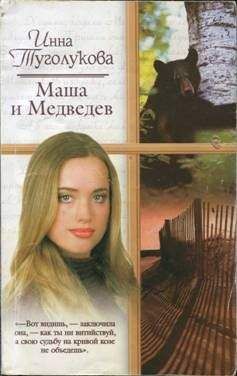Гриша взглянул на мир новыми, просветленными глазами и увидел в нем Аню — единственную женщину, сумевшую постичь его тонкую душевную организацию.
Он давно привык брать от жизни все и сразу. Но в данном конкретном случае, придавленный сладким бременем нового статуса, понимал, что действовать следует иначе — не штурмом, а осадой. Он был большой, высокий («Габаритный мужчина», — говорила про таких Ба), с тронутым оспой широким лицом и толстыми влажными губами. Если бы Ане сказали, что он имеет на нее виды, она бы грохнулась в обморок, настолько ненужными, тягостными и нелепыми оказались бы подобные притязания.
Когда Гриша зачастил в магазин, Аня заподозрила, что «пацаны» собираются увеличить ежемесячную мзду. Она ловила на себе его странные взгляды и тоскливо прикидывала, как сильно возрастет эта самая мзда.
И вот однажды в конце рабочего дня он подошел к ней и предложил подвезти до дома.
— Спасибо, не надо, — отказалась Аня. — Я живу в двух шагах отсюда и хожу пешком.
— Тогда я провожу.
— Зачем?! — удивилась она.
— Нам нужно поговорить.
— О чем нам говорить? Назови свою цену — и дело с концом.
— Цену?! — поразился Григорий. — Какую цену?! Ты что, хочешь за деньги?..
— А разве у меня есть выбор?
— А я-то думал, что ты порядочная женщина, — с горечью сказал он. — А ты такая же шалава, как и все.
— Ах ты… что… да кто ты такой?! — взвилась Аня.
— Кто я такой?! — заорал Григорий. — В отличие от тебя — человек! И если мне захочется продажной любви, я сниму проститутку. А своих женщин я за деньги не покупаю!
— Я не твоя женщина!
— И никогда ею не станешь!
Магазин уже закрылся, и освободившиеся сотрудники с тревожным любопытством заглядывали в служебный коридор. Охранник тоже на всякий случай подтянулся поближе, поигрывая дубинкой, предназначенной — кто бы сомневался — отнюдь не Григорию.
— Послушай, Гриша! — прошипела она. — Чего тебе от меня надо?
— Да уже ничего не надо, — махнул он рукой.
— Значит, сумму вы нам увеличивать не будете, — мгновенно ухватилась Аня за открывшиеся возможности.
— Какую сумму и кому — вам?
— Ну как же? Ты же сказал…
— Я сказал, что хочу с тобой поговорить.
— Но разве…
— Ну и балда ты, Анна Сергеевна, — усмехнулся Григорий. — Такую песню испортила…
Говорят, что люди, скрывающие свои эмоции под внешней невозмутимостью, переносят боль гораздо острее тех, кто щедро выплескивает чувства на поверхность. Все считают их толстокожими монстрами, а они страдают и корчатся в невидимых миру конвульсиях.
Алексей страдал. Он уже ничего не хотел — ни жениться, ни разводиться, — только покоя. Но раскрутившийся маховик было теперь не остановить. Впрочем, при особом желании и остановить было можно, и даже крутануть в другую сторону. Но это требовало больших усилий. Усилия прилагать не хотелось. Тем более большие. Лечь бы на диван, прикрыть глаза и молчать, молчать. А рядом — Машка теплым комочком.
Он очень любил Машку, а сейчас еще и безумно жалел — разорванную ниточку в запутанной паутине его жизни. И эта жалость придавала его любви особую пронзительную остроту.
— «Ребенок без отца все равно что дом без крыши», — цитировала Рабиндраната Тагора просвещенная Татьяна Федоровна. — Открыт всем ветрам.
И Леша представлял себе маленькую Машку на перекрестье дорог, на самом юру — тоненькую, испуганную, беззащитную.
— Ты потеряешь самого близкого человека! — кричала мать.
— Я никогда ее не потеряю! — огрызался Леша. — Никогда!
— Она вырастет и не простит тебе, что ты бросил Веру!
— А разве я ее бросил? — удивлялся Алексей. — Я же не ушел.
— Ты что, больной?! — поражалась Татьяна Федоровна. — Или прикидываешься?
…Проснуться бы завтра утром, открыть глаза, а все уже улеглось, уладилось само собой ко всеобщему удовольствию. И чего им всем от него надо? Ведь живут же люди и на две, и на три семьи. Вон хоть тот же Немцов — за примерами далеко ходить не надо. Каждый знает свое место и ничего сверх этого не требует.
Мать, конечно, можно понять — на склоне лет проблемы никому не нужны. Но если они все равно уже появились, решай их в пользу сына! Ведь это же твоя родная кровь! Какое там! Рвет горло за Верку.
А к Верке, между прочим, тоже много вопросов. Не такая уж она белая и пушистая. Рот откроет — мало не покажется. «Подай», «принеси», «помой». Нашла себе мальчика на побегушках. И готовит она невкусно, и деньги транжирит без толку, и квартирой, можно сказать, не занимается. «Ах, я устала — много работы!» Нашла себе отмазку. И вечно у нее что-то болит, вечно она ноет. Мать говорит: «Значит, ей не хватает ласки, и она таким образом пытается привлечь твое внимание». Ему, между прочим, тоже много чего не хватает. В том числе и ласки. И кого это волнует?
Где-то он недавно читал или слышал, что больше всего люди боятся неизвестности и любви, на которую они не могут ответить. Это про них с Верой. Их обоих страшат перемены и та неведомая жизнь, которую они за собой повлекут.
Вера молчит, не задает вопросов, не просит остаться, не устраивает сцен — делает вид, что ничего не происходит. Дает ему время остыть, одуматься. А может, готова принять все, как есть? Лишь бы он остался, не бросал их с Машкой? Но ведь он именно этого и хочет — жить, как живется, и будь что будет. И только мать не дает покоя, впивается в душу, как сверло в больной, ноющий зуб.
Ну не любит он больше Веру, не волнует она его как женщина, не вызывает желаний. Эдакая оскорбленная невинность, воплощенная скорбь. Оставляет ему право на злодейство — не сама прогнала, он ушел, разорил гнездо, обездолил ребенка. Да никогда он Машку не бросит! И в гнезде бы сидел, не рыпался, влачился по жизни, тянул лямку. Если бы не Катя. Ну как же мать не понимает?! Это ж словно шашлык после манной каши! Кто ж откажется? Или он не имеет права на счастье? На праздник? Может, он и продлится-то всего ничего, этот праздник. Так это ж надо понять, разобраться, чтоб не кусать потом локти от собственной дурости.
Катька, конечно, та еще штучка. В отличие от Веры не молчит — маленькая хитрая стерва. Такая же предприимчивая, как и ее мамаша. Еще неизвестно, кто там у них играет первую скрипку. Впрочем, на мамашу ему в высшей степени наплевать, хотя та и лезет во все дыры, понимает, что давить его надо сейчас, пока он еще с крючка не сорвался. Но ее-то, если что, можно и послать куда подальше. А вот Катька пока его держит, и держит крепко, не оторваться. Он пару раз попробовал — не получилось.
Зацепила когтистой лапкой — не отпускает. То ластится, словно блудливая кошка, трется настойчиво крепкой грудкой. То злится — злобно шипит, раздувая ноздри. Мечтает владеть безраздельно.