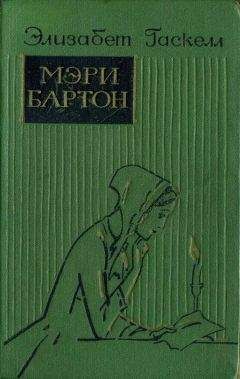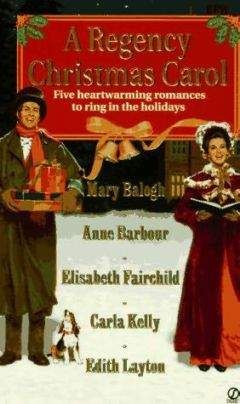– А плата останется та же? – спросил Джем.
– Ну, конечно, иначе какой же от этого прок? А хозяевам это вполне по карману – они не разорятся. Я тебе когда-нибудь говорил, что мне сказал один человек в больнице много лет назад?
– Нет, – рассеянно ответил Джем.
– Так вот: попал я однажды в больницу. Времена были плохие, голодные, заболел я лихорадкой, а в больнице, пока человек болен, к нему хорошо относятся, хоть потом могут из него все жилы вытянуть. Так вот, когда лихорадка у меня прошла, но слабость была такая, что я еле на ногах держался, они и говорят мне: «Если ты умеешь писать, можешь побыть здесь еще недельку – помоги нашему хирургу навести порядок в бумагах, а уж мы позаботимся, чтобы ты не чувствовал недостатка ни в мясе, ни в питье. Ты за эту неделю совсем станешь на ноги». Ну, я, конечно, сразу согласился. И стал я писать да переписывать. Писать-то я умел, но уж больно чудные слова там встречались – я таких никогда не видывал, так что мне приходилось вертеть головой, точно петуху, когда он клюет зерно: в бумагу посмотрю, потом на свою запись, потом снова в бумагу. Но одна запись очень меня заинтересовала, и решил я: спрошу-ка у хирурга, чтобы он объяснил. На цифры память у меня слаба, но я слово в слово запомнил вот что: большая часть несчастных случаев происходит в последние два часа работы, когда человек устает и становится невнимательным. Хирург сказал мне тогда, что это истинная правда и что он хочет, чтобы люди знали об этом.
А Джем тем временем раздумывал, что означает поведение Мэри, но, когда Бартон умолк, все же сообразил, что собеседник ждет от него какого-нибудь замечания, и сказал наугад:
– Это правильно.
– Да уж, конечно, правильно. Слишком они нас угнетают, а скоро будет и того хуже. Печатники собираются бастовать: они создали крепкий союз, теперь с ними не просто справиться. Да только много произойдет такого, чего никто не ждет. Помяни мое слово, Джем.
Джем и не думал в этом сомневаться, но не проявил ни малейшего любопытства. Тогда Джон Бартон решил намекнуть яснее.
– Скоро уже из рабочих не будут больше вытягивать все жилы. Всякому человеческому терпению приходит конец. И если хозяева не могут ничем нам помочь, – а они говорят, что не могут, – мы пойдем к кому-нибудь повыше.
Но Джема и это не заинтересовало. Он потерял надежду на то, что Мэри по собственной воле выйдет к нему, и теперь хотел лишь поскорее уйти, чтобы никто не мешал ему мечтать о ней. А потому, пробормотав какое-то нечленораздельное извинение, он поспешно простился с Джоном, и тот снова остался наедине со своей трубкой и политикой.
Уже третий год застой в промышленности все возрастал, а цены на съестные припасы непрерывно повышались. Это несоответствие между заработком рабочих и стоимостью их питания влекло за собой болезни и смерть гораздо чаще, чем это можно себе представить. Целые семьи постепенно вымирали от голода. Не хватало только Данте, чтобы описать их страдания. Но и его перо бессильно было бы поведать страшную правду, – он мог бы дать лишь некоторое представление о той неимоверной нищете, которая стала уделом десятков тысяч людей в страшные 1839, 1840 и 1841 годы. Даже филантропы, специально занимавшиеся изучением этого вопроса, вынуждены были признать, что они не могут установить истинных причин бедствия, – все было настолько сложно и запутанно, что понять что-либо не представлялось возможным. Не удивительно, что в эту пору лишений отношения между рабочими и высшими сословиями крайне обострились. Нужда и страдания навели многих тружеников на мысль, что и законодатели, и судьи, и хозяева, и даже священники являются их угнетателями и врагами, что они сговорились держать их в рабстве и подчинении. Наиболее печальным и устойчивым последствием этих лет застоя в торговле была именно вражда между различными классами общества. Невозможно описать или хотя бы вкратце обрисовать бедственное положение, в котором находилось тогда большинство городских жителей, а потому я и не стану этого делать; и все же я убеждена, что об этом не было известно даже в той слабой степени, в какой способны это передать слова, – ведь мы живем в христианской стране, и те, кому выпал более счастливый жребий, несомненно, поспешили бы на помощь страдальцам, знай они всю правду. А эти несчастные в большинстве случаев сначала плакали, потом начинали проклинать. Их злоба искала выхода в крайних политических взглядах. Но когда слышишь, как я слышала, о страданиях и лишениях бедняков, о существовании лавок, где чай, сахар, масло и даже муку продают по четвертушкам, иначе люди не в состоянии их купить; когда слышишь о том, как родители по полтора месяца просиживают ночи напролет у очага, чтобы предоставить единственную кровать и единственное одеяло в распоряжение своей многочисленной семьи, а иные неделями спят на холодных плитах очага, потому что им нечем развести огонь и нечего на нем варить (и происходит это в середине зимы), а иные голодают по нескольку дней без всякой надежды на лучшее будущее, да при этом живут, или, вернее, прозябают, на тесных чердаках или в сырых подвалах и, измученные нуждой и отчаянием, преждевременно сходят в могилу, – когда слышишь обо всем этом и в подтверждение видишь изможденные озлобленные лица, видишь семьи, где царит отчаянье, разве можно удивляться тому, что многие в пору лишений и горя говорят и действуют слишком поспешно и жестоко?
И вот среди рабочих стала распространяться идея, в начале принадлежавшая чартистам, но взлелеянная бесчисленными тружениками, словно любимое дитя. Они не могли поверить, что правительство знает об их страданиях: они предпочитали думать, что законодатели понятия не имеют об истинном положении дел в стране, уподобляясь людям, которые вздумали бы внушать правила хорошего тона детям, не потрудившись узнать, что дети эти уже несколько дней сидят голодными. Кроме того, несчастные слышали, будто бы парламент вообще не считает их положение тяжелым; это казалось им странным и необъяснимым, но мысль, что они могут рассказать о всей глубине своего бедствия, а тогда будут найдены меры, чтобы положить ему конец, приносила утешение их страждущим сердцам и умеряла нараставший гнев.
Итак, была составлена петиция, которую в ясные весенние дни 1839 года подписали тысячи людей [45]; они просили парламент выслушать очевидцев, которые могли бы поведать о беспримерном обнищании населения промышленных районов. Ноттингем, Шеффилд, Глазго, Манчестер и многие другие города спешно назначили делегатов, которые должны были вручить петицию и могли рассказать не только о том, что они видели и слышали, но и о том, в каких страшных условиях живут они сами. То были измученные, изможденные, отчаявшиеся люди, хорошо знавшие, что такое голод.