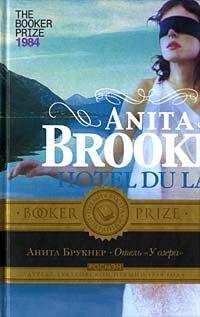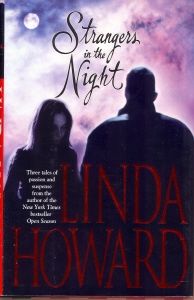Эдит — она так и не присела — оставила миссис Пьюси на ее ложе и подошла к окну. У нее перед глазами возникла Дженнифер, сидящая в постели с голыми плечами и в сползающей ночной рубашке. Потом Ален, как он некрасиво, по-мальчишечьи, разревелся и припустил по коридору. И еще ей вспомнился — но действительно ли она это слышала? — звук открываемой и закрываемой двери. Любопытно, подумала она. Любопытно.
Она на секунду прижалась лбом к холодному оконному стеклу, предоставив миссис Пьюси допивать кофе. Она пыталась затоптать первые ростки осуждения в неловкости, которые, как она чувствовала, быстро расцветут пышным цветом, дай им только волю. Миссис Пьюси боится, напомнила она себе. Ибо миссис Пьюси любое отступление от status-quo должно внушать страх. Она стара, тщеславна и не может позволить себе бояться; поэтому для нее так важно приписать собственные чувства кому-то другому. Все они прекрасно переживут случившееся и к вечеру забудут. Но, думаю, отныне я буду проводить меньше времени в обществе миссис и мисс Пьюси. В конце концов, у меня с ними нет ничего общего.
Она обернулась и успела заметить, как миссис Пьюси изящно выуживает ложечкой со дна чашки нерастворившийся сахар.
— Вероятно, вам лучше отдохнуть, — произнесла Эдит куда решительнее, чем говорила до этого. — На вашем месте я бы сегодня посидела в номере. Уверена, вся эта история легко позабудется.
— Его, понятно, придется уволить, — продолжала миссис Пьюси. — Я поговорю с мсье Юбером. Уверяю вас, это будет проще простого. Если вспомнить, сколько лет я сюда приезжаю! А что бы предпринял мой муж, об этом мне страшно подумать. — Она тяжело задышала и снова схватилась за сердце. — Да, идите, дорогая моя, раз уж вам надо. Я же знаю, вам хочется погулять. Вы у нас неутомимый ходок. Не откажите в любезности, направьте ко мне мсье Юбера, когда будете выходить.
Эдит осторожно прикрыла за собой дверь. Она никого не встретила ни в коридоре, ни на лестнице. В ваннах шумела вода, в комнатах выли пылесосы; в одной из спален громко переговаривались горничные. За конторкой портье на первом этаже мсье Юбер и его зять вели доверительную беседу, в кои веки раз прекрасно поладив друг с другом; их лица выражали умудренность, всеведение, сдержанность. Она им кивнула, решительно прошла мимо, и вращающаяся дверь выпустила ее на улицу. От холодного воздуха, да еще и сырого из-за ползущего с озера тумана ей сделалось зябко. Для такой погоды она была слишком легко одета, чувствовала себя неважно, но ощущала безотчетное нежелание возвращаться в отель за теплым свитером. Кофе, решила она. Потом долгая прогулка и, если получится, ленч где-нибудь подальше отсюда. Можно не возвращаться до вечера. Не лучше ли какое-то время вообще не попадаться никому на глаза? Эта маленькая комедия что-то начинает действовать мне на нервы.
Засунув руки поглубже в карманы кардигана, Эдит зашагала по мертвой листве, чувствуя, как волны беспокойства из-за утреннего происшествия разбегаются в разные стороны, словно круги на воде, вбирая в себя и нынешнее ее состояние, и все предстоящие ей неприятности. Вокруг все было холодно и серо. Лица редких встречных хранили, по причине безрадостной погоды, замкнутое выражение, а благожелательность улыбок и приветствий отмеривалась весьма скупо, надо полагать, в надежде на лучшие времена, когда их смогут вернуть с такой же благожелательностью; однако едва заметные изменения дневного света и даже безликая печаль этого позднего времени года казались ей предпочтительней замкнутого мирка отеля с его запахами еды и духов, с его пристальным вниманием к тому, кто в чести, а кто в немилости, с его долгой памятью и колючими взглядами, с его договорными обязательствами мило себя вести и делать вид, что все идет должным порядком. А все потому, что под одной крышей собралось столько женщин, подумала Эдит, которую саднило воспоминание о сцене в гостиной миссис Пьюси. Глупое мелкое недоразумение вроде этого, если оно и в самом деле было недоразумением, будет и дальше питать обиды, использоваться в различных целях и служить пищей для разговоров, пережевываться до бесконечности или до отъезда одной из нас. Господи, ну о чем другом здесь еще разговаривать?
Но происшедшее заставило миссис Пьюси утратить равновесие, а она к этому не привыкла. Она должна утопить свое волнение в разговорах. Должна его от себя отстранить, пока не представит всем свою минутную слабость как чужую вину и тем самым изгонит демона собственной смерти. Она не привыкла бояться. Она столько времени живет защищенной от мира, что неспособна понять — как это ее уязвили. В сущности, она неспособна понять, что кто-то вообще может быть уязвимым. Возможно, поэтому она такая жестокая. Ей было позволено достигнуть нынешней уродливой безмятежности лишь ценой полнейшего незнания жизни. Однако, когда в ее укреплениях возникают прорехи и требуется их залатать, она обнаруживает недюжинную проницательность и сноровку. Бедняга Ален, подумала Эдит, рассеянно шагая и опустив голову. Но почему, собственно, бедняга? В эту самую минуту он, скорее всего, смеется вместе с Маривонной. Было, прошло, забыто. Нет, и здесь все не так просто, подумала она с легкой болью.
Когда возбуждение улеглось и снова проснулся голод, она завернула в «Хаффенеггер», где увидела Монику — та сидела за столиком, уплетала огромный кусок шоколадного торта, глухая к поскуливаниям Кики, и занималась этим столь самозабвенно, что едва выкроила секунду ткнуть вилкой в сторону Эдит. Эдит заняла столик у двери, выпила две чашки кофе и съела бриошь. Затем, не по доброй воле, а от одиночества, пересела к Монике, которая уже истово дымила сигаретой. Они кивнули друг другу, обменявшись долгим взглядом.
— Ну как, — с наигранной бодростью осведомилась Эдит, — какие планы на сегодня?
— Умоляю, — ответила та. — Я с утра не в себе, и нет у меня никаких планов. Я вообще живу не по плану.
Пора бы вроде понять. Вы ведь, если не ошибаюсь, писательница. Значит, вам положено хорошо разбираться в людях, или нет? Я потому спрашиваю, что вы иной раз кажетесь мне какой-то толстокожей.
Она ткнула сигарету в пепельницу и оставила дотлевать.
— Простите, — сказала Эдит, отодвигая пепельницу. — Я тоже не в лучшем настроении. И я не утверждала, что разбираюсь в людях. Да и как мне в них разбираться? То, что я вижу, — одно, то, что думаю, — совсем другое, и мне сдается, я уже перестала сама себе верить. Видит Бог, я обманута жизнью не меньше вашего. А может, и больше, — добавила она с горечью.
В воздухе висел табачный дым. Обе невесело задумались. Окна запотели, как в прошлый раз, на вешалке болтались тяжелые осенние куртки и плащи. Приглушенный шум разговоров, постукивание ложечек о стаканы и чашки, призванное привлечь внимание официантки, наталкивали на мысль о том, что почти для всех сидящих в зале этот городок — родной, что для них заглянуть в «Хаффенеггер» — всего лишь будничный ритуал, привычное дело, а потом они вернутся к себе, но не в отели, а к домашним пенатам, где их ждут любимые книги, телевизоры, кухни, где они смогут спокойно посидеть, почитать или постряпать, где откроют заднюю дверь и выбросят птицам крошки и куда их в конце недели приедут навестить дети и внуки. У Эдит сдавило горло при мысли о ее маленьком доме, закрытом, сиротливом и всеми заброшенном. Нужно вернуться, подумала она. Потом поправилась: нет, еще не пора, не с этой тоской. Сперва наберусь сил. Как-нибудь да справлюсь.