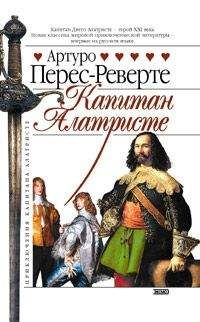Ознакомительная версия.
Улыбка ее становится насмешливой. Это даже и не улыбка, а гримаса непритворной печали.
— Погляди-ка мне в глаза… Ты в самом деле считаешь, что я в состоянии куда бы то ни было вернуться?
— Я говорю о других возвращениях, — возражает он, выпрямляясь. — И лишь о том, что мы помним. О том, где мы с тобой были…
— Свидетелями друг друга?
Макс выдерживает ее взгляд, но не отвечает на улыбку — не вступает в игру.
— Может быть, и так. В том мире, который знали.
Взгляд ее смягчается и теплеет. На свету ярче становится его золотистый блеск.
— Танго старой гвардии, — говорит она тихо.
— Вот именно.
Они вглядываются друг в друга. Она опять стала красива, думает Макс. Три слова — а какое волшебное действие!
— Я думаю, что ты много раз слышал его. Как и я.
— Конечно. Много раз.
— И веришь ли, Макс… Не было случая, чтобы при звуках его я не подумала бы о тебе.
— Могу сказать почти то же самое: никогда не переставал думать… о себе.
На неожиданный раскат ее смеха — по-молодому звонкого и звучного — обернулись люди из-за соседних столов. Меча слегка приподнимает руку, словно хочет прикоснуться к его руке.
— Парни былых времен, как ты сказал тогда в Буэнос-Айресе.
— Да, — вздыхает он. — Мы теперь и сами — парни былых времен.
Лезвие затупилось и брило плохо. Прополоскав бритву в мыльной воде и насухо вытерев, Макс правил ее о кожаный ремень, прилаженный к верхнему шпингалету окна, откуда виднелись зеленые, красные, розоватые кроны деревьев на проспекте Адмирала Брауна. Правил упорно и настойчиво до тех пор, пока не привел в порядок, а сам тем временем рассеянно глядел на улицу, где одинокая машина — в квартале, где расположен пансион Кабото, несравненно чаще встретишь трамвай или экипаж и лишь изредка колеса автомобиля раздавят кругляш конского навоза — затормозила возле запряженной мулом тележки, с которой человечек в соломенной шляпе и белом пиджаке выгружал хлеб и пирожные из жженого сахара. Был уже одиннадцатый час утра, а Макс еще не завтракал, и при виде телеги под ложечкой засосало сильней. Да и ночь выдалась не из самых удачных. Проводив супругов де Троэйе из Барракас в отель «Палас», он вернулся к себе далеко за полночь и лег спать, но спал скверно. Сон был беспокойный и отдыха не принес. Это было давно знакомое ему состояние — когда ворочаешься на смятых простынях в полуяви, полудреме, населенной смутными образами, и память подбрасывает тебе картины, которые тотчас же искажаются воображением и перемежаются внезапными вспышками паники. Чаще всего виделся ему желтоватый склон вдоль каменной изгороди, взбегающий вверх, к малому форту, и заваленный тремя тысячами высохших, мумифицированных временем и солнцем трупов с еще заметными следами увечий и примет мучительной смерти — трупов тех, кто принял смерть в этот летний день 1921 года. Максу Коста, рядовому 13-й роты Первого батальона Иностранного легиона, было тогда всего девятнадцать лет, и покуда он вместе с капралом Борисом Долгоруким и еще четырьмя товарищами, которым приказано было выдвинуться перед остальной ротой, задыхаясь от смрада, ослепленный яростным блеском солнца, взмокший от пота, бежал с маузеровским карабином в руках к этому заброшенному форту, отчетливо понимая, что только чудом не превратился пока в одно из этих почернелых тел, еще так недавно бывших молодыми и крепкими, а ныне ставших падалью и заваливших дорогу от Анваля до Монт-Аррюи. После того дня офицеры Иностранного легиона давали по серебряному дуро за голову каждого мертвого мавра. И когда два месяца спустя в городке под названием Тахуда («Надо умереть. Есть добровольцы?» — снова раздалось в ту минуту) винтовочная пуля оборвала его недолгую военную карьеру и уложила на пять недель в лазарет, откуда он дезертировал в Оран, чтобы немедля отправиться в Марсель, — у него набралось уже семь таких монет.
Направив бритву, Макс вновь повернулся к потускневшему зеркалу шкафа и критически осмотрел свое лицо с синяками под глазами — сказывалась бессонная ночь. Семи лет не хватило, чтобы справиться с призраками. Чтобы отогнать демонов, как говорили мавры и перенявший у них это выражение капрал Борис Долгорукий, который однажды, сунув в рот ствол пистолета, покончил с демонами навсегда: с демонами — а заодно и с собой. Чтобы справиться, семи лет не хватило, а вот чтобы научиться терпеливо сносить их беспокойное общество — вполне. И потому Макс сумел отделаться от неприятных воспоминаний и полностью сосредоточился на тщательном бритье, еле слышно напевая себе под нос танго из тех, что звучали вчера в «Ферровиарии». Спустя несколько мгновений задумчиво улыбнулся намыленному лицу, глядевшему на него из зеркала. Воспоминание о Мече Инсунсе оказалось действенным средством против назойливых демонов прошлого. О ее надменной манере танцевать. Или о ее речах, где молчания и отблесков текучего меда больше, чем слов. И о планах, которые Макс постепенно, неторопливо вынашивал в отношении ее самой, ее мужа и будущего. Эти идеи с каждой минутой обретали все бо́льшую определенность и законченность по мере того, как осторожные прикосновения острой стали обнажали кожу из-под хлопьев мыльной пены.
Слава богу, вчерашний вечер окончился без происшествий. Армандо де Троэйе долго слушал танго в старинном духе и смотрел на танцующих — ни Меча Инсунса, ни Макс на площадку больше не выходили, — а потом, когда расстроенная пианола, проигрывавшая шумные и неопознаваемые танго, сменила музыкантов, пригласил все трио за свой стол. И потребовал для них чего-нибудь особенного. Подайте самого лучшего и дорогого, что у вас есть, сказал он, вертя в пальцах свой золотой портсигар. Однако официантка, пошептавшись с хозяином — щетинистоусым испанцем разбойного вида, — сообщила, что за ближайшей бутылкой шампанского надо кварталов сорок ехать на семнадцатом трамвае, да и все равно не достать, потому что уже поздно; так что композитору пришлось довольствоваться несколькими двойными порциями граппы и безымянным коньяком, не считая не откупоренной еще бутылки местного джина и воды в сифоне синего стекла. Всему этому, равно как и поданным на закуску ломтикам мяса на шпажках, была воздана честь в дыму сигарет и сигар. В иных обстоятельствах Макс заинтересовался бы разговором де Троэйе с тремя ветеранами — кривой аккордеонист со стеклянным глазом помнил девятисотые годы, времена Хансена и Руби Мирейи — и послушал бы их воззрения на танго новые и старые, манеру исполнения, тексты и музыку, но в тот день мысли его были заняты другим. Одноглазый музыкант, которому джин и душевная обстановка немного развязали язык, признался, что по нотам играть не умеет, больше того, никогда в них не нуждался. Всю жизнь подбирает по слуху. А исполняет он и двое его товарищей настоящие танго — те, которые танцуют, как исстари повелось, в быстром темпе, с резкими паузами в нужных местах, — а не те прилизанные салонные подделки, введенные в моду Парижем и кинематографом. Что же касается текстов, то сгубило танго и унизило тех, кто танцевал его, неуемное стремление превратить придурковатого плаксивого рогоносца, брошенного женой, в героя, а фабричную девицу — в увядшую болотную кувшинку. Подлинное танго, добавил кривой, под бульканье джина и энергичные одобрительные восклицания своих товарищей, принадлежало сброду из предместий — оно проникнуто злобной и дерзкой насмешкой бандита или проститутки, шутовским цинизмом людей отпетых, конченых и сознающих это. И тут утонченные поэты и музыканты оказались совершенно лишними. Танго хорошо, когда нужно сказать комплимент женщине, обнимая ее, или устроить шумный загул с дружками. И, подводя итог, можно сказать, танго — это инстинкт, ритм, импровизация и похабные слова. А то, во что его превратили, вы уж простите меня, сеньора, — тут его единственный глаз скосился на Мечу — это тошнотные розовые сопли. Если так дальше пойдет со всеми этими розами и грезами, с покинутым холостяцким гнездышком, со всеми этими слезливыми чувствованиями, то скоро, глядишь, взвоют о бедной вдовой мамочке и о несчастной слепенькой девушке, продающей цветы на углу.
Ознакомительная версия.