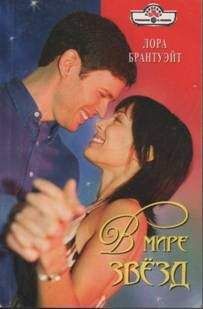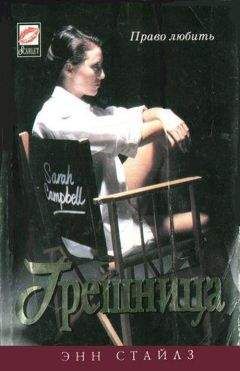Его дом поразил ее изяществом.
— На что похоже? — спросил Эдвард, и она знала, что ее ответ важен.
— На испанский особняк. Розы и галерея...
— Мне тоже так кажется. Почему-то этого никто другой не видит... Пойдем, я покажу тебе сад.
Одуряющее пахли розы и что-то еще, экзотическое и терпкое. Дженнифер прикрыла глаза, вздохнула и отдалась на волю течения.
Река принесет ее в океан. Или размозжит в водопаде. Предугадать, что там впереди, — уже не в ее власти.
Это были самые волшебные выходные в жизни Дженнифер. Поначалу она чувствовала себя напряженно: ждала подвоха. Точнее даже не подвоха, а двусмысленного намека, шутки, взгляда, которые бы дали сигнал: началось...
Но Эдвард и не думал ее соблазнять. И потом ей стало казаться, что она сама все выдумала: и его неожиданно вспыхнувший интерес, и предполагаемое вожделение. Только как иначе объяснить его приглашение, почти похищение, обернувшееся сказкой для нее?
С утра субботы Гай обрывал ей телефон. Видимо, накануне он был слишком занят, чтобы обратить внимание на ее отсутствие. Она отправила ему сообщение: все в порядке, буду в понедельник, сенсационный материал, об остальном не спрашивай. И отключила телефон. Внешний мир отошел в четвертое измерение.
Дженнифер никогда прежде не была в домах с прислугой. Ей нравилось, как Эдвард обращается с охранниками, горничной, поваром — просто и одновременно с уважением. Она видела, что его обожают, и понимала почему.
Она сама стала его обожать. С ним было удивительно разговаривать. Они проводили время у бассейна, или в саду, или в гостиной, обставленной в колониальном стиле. Он рассказывал ей о себе — с удовольствием, без прикрас, открывая самые разные грани своих чувств и отношений. Похоже, даже ее вечно работающий диктофон его не смущал.
Эдвард с удовольствием слушал ее. Дженнифер не особенно хотелось распространяться о своей жизни, но он и не требовал этого. Он спрашивал ее мнение о музыке, о книгах, о людях и предметах, о жизни и смысле бытия...
Дженнифер не выдержала и рассказала ему, что мечтает написать свою Книгу. Может быть, книгу рассказов. Или цикл повестей, или роман, в который будут включены рассказы...
Естественно, о том, что он — предполагаемый центр этого произведения, она не упомянула.
Он долго молчал, а потом сказал «спасибо», будто она подарила ему что-то очень важное. Потом Дженнифер поняла, что даром ее было доверие.
Только один раз ей померещилось мелькнувшее в его глазах пламя: в субботу вечером он устроил ужин со свечами в саду, пригласил скрипача и флейтиста, чтобы они играли им, а потом пригласил на танец. Всего один медленный, текучий, как молодой мед, танец... Он посмотрел на нее так, что ее щеки захлестнуло волной жара. Но только один раз.
Время уходило, как мелкий речной песок сквозь пальцы. Вечером в воскресенье они сидели у бассейна. Дженнифер старалась на прощание надышаться этим еще поразительно летним воздухом и безмолвным теплом, которое медленно, но непрерывно текло от нее к Эдварду и от него к ней.
Завтра — домой. То есть не домой, а в обычный, несказочный мир. Уик-энд заканчивался, и вещи готовились встать на свои места. И только что-то подсказывало Дженнифер, что по-прежнему все равно не будет. Он столько всего ей дал за эти два коротких дня, которые стоили половины жизни... И это еще не все.
— Я столько всего о тебе уже знаю, но ты еще не открылся мне. И не перестал меня удивлять. — Дженнифер смотрела на воду в бассейне: его будто залили бирюзовым стеклом.
— Ты меня тоже. — Его голос звучал немного хрипло: возможно, Эдвард простудился.
— Но... Ты и сам понимаешь, о чем я. Еще в Нью-Йорке, когда ты устроил тот ужасный... ой, извини... в общем, тот самый ужин, я не понимала, почему ты это делаешь. — Дженнифер знала, что, если не скажет ему этого всего сейчас, оно так и останется с ней, запечатанное в сердце, и будет жечь и мучить долго-долго. — Версия у меня была только одна: ты по странной прихоти хочешь со мной переспать. И потом твои ночные звонки. А теперь я здесь, в твоем доме, мы уже второй день только и делаем, что греемся на солнце, плаваем в бассейне, разговариваем о литературе, о жизни, о тебе и обо мне... Почему?
Дженнифер постаралась, чтобы в ее вопросе не прозвучали легкая горечь и недоумение, которые может понять только женщина, к которой мужчина не постарался лишний раз прикоснуться.
Эдвард пожал плечами, помолчал и с мягкой улыбкой ответил:
— Потому что мне нравится греться с тобой на солнце, плавать в бассейне, смешивать для тебя коктейли из соков, танцевать после ужина в саду и говорить о литературе. Кстати, в живописи ты тоже неплохо разбираешься...
— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Почему мы не...
— Почему мы не стали любовниками?
Дженнифер почувствовала, как волна жара прокатилась по груди и горлу.
— Да.
— А ты не догадываешься?
Она промолчала. Оторвалась от упрямого созерцания воды, посмотрела ему в глаза.
— Потому что, Дженнифер, мы уже стали ближе, чем любовники. Я искал именно этого. — Он говорил медленно, будто подбирал слова, будто все это было для него крайне важно и в то же время хрупко. — Ни с одной из своих женщин я не говорил так, как с тобой, — упоительно. Черт, да ни с одной из них я вообще не говорил на одном языке. И дело не в том, что у нас много общих тем, что ты развитая и начитанная, что ты тонко шутишь и необыкновенно мыслишь... Мне кажется, что мы оба смотрим на мир через одну и ту же призму. По крайней мере, даже если они разные, они показывают нам одни и те же фрагменты реальности. Прости, я, кажется, увлекся...
— Нет, говори, пожалуйста.
— Ты сама видела, в каком мире я живу. Он... ненастоящий. — Эдвард поморщился, как от боли, и Дженнифер безумно захотелось прикоснуться к нему, погладить по руке, по плечу, чтобы притупить остроту этих выстраданных слов. — То есть настоящее в нем — то, что спрятано: игры хищников и агония жертв. Зная, что ты все время на виду, учишься скрывать свою человеческую жизнь. Некоторые так хорошо овладевают этим искусством, что, кажется, вообще перестают жить. Играют роли своих героев на съемочной площадке, а вне ее играют роли себя, но не живут.
— И?.. — У Дженнифер кружилась голова, она не пыталась найти этому объяснение и боялась, что он замолчит, недоскажет.
— Прости, я, может быть, скажу сейчас вещь, которая прозвучит жестоко...
— Не бойся, я не так чувствительна, как может показаться, — усмехнулась она.
— Ты заблуждаешься, — быстро сказал Эдвард. — Так вот, — у него был очень серьезный и пронзительный взгляд, он будто ввинчивался ей в душу, — я увидел тебя, и меня к тебе потянуло. Не просто физически, хотя ты очень привлекательна, нет... — Он умолчал о том, как трудно ему было сдерживаться в ее присутствии, когда она говорила о чем-то и ее губы двигались так сладко. Когда она слушала его и не отрывала от него взгляда чайных глаз. Когда они просто молчали. Как билась жилка у нее на шее, какая восхитительная ямочка лежала между ключицами, как он отворачивался и заставлял себя не желать. — Я увидел в тебе человека не отсюда, не из этого фальшивого мира, не из того мира, где деньги и слава решают все. Из реального мира, где чувствуют, сопереживают, умеют любить и забывать о себе. До того как встретил тебя, я считал, что быть одному — это в любом случае лучше, чем с кем-нибудь. Потому что даже вдвоем, даже в сердце толпы можно быть одиноким. И незачем обманываться, и незачем раскрывать душу перед человеком, который может там все истоптать и искорежить. Когда я узнал тебя, мне показалось, что быть с тобой — это лучше, чем быть одному. — Эдвард улыбнулся. — И я не ошибся.