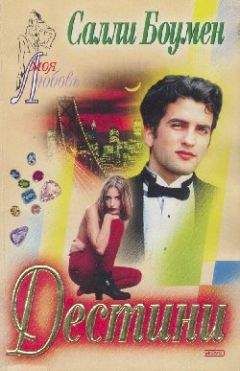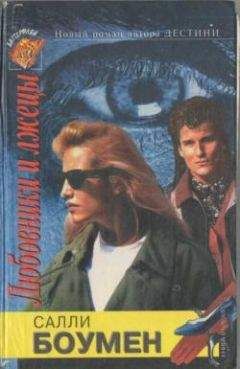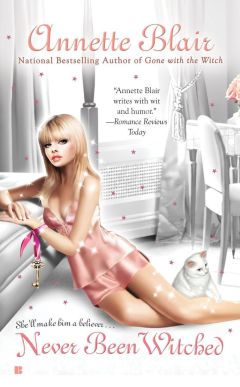В глазах светских матушек он воплощал преимущества Европы – победоносно красивая внешность, острый ум, а к тому же безупречные манеры, богатство и старинный титул.
Папаши Восточного побережья, помимо всего этого, ценили в нем редкостную деловую хватку. Это вам не праздный французский аристократишка, который проматывает свое состояние, приятно проводя время. Как большинство французов его сословия, он понимал ценность земли – дорожил ею и постоянно округлял свои и без того большие поместья во Франции. В отличие от большинства французов его сословия он обладал американским вкусом к коммерческой деятельности. Он расширил ювелирную империю де Шавиньи, основу которой заложил его дед в XIX веке, и превратил ее в самое крупное и самое знаменитое предприятие такого рода, если не считать Картье. Он увеличил и улучшил свои виноградники в долине Луары. Он вкладывал капиталы в банковское дело, производство стали и в южноафриканские алмазные копи, откуда поступало сырье для ювелирных изделий де Шавиньи – изделий, украшавших коронованные головы в Европе, а теперь и некоронованные головы богатых и взыскательных американцев.
О да, у себя в клубах папаши Восточного побережья приходили к выводу, что де Шавиньи пальца в рот класть не следует. Помимо европейских добродетелей, он обладал и американскими. Да, конечно, он каждое утро звонил тренеру своих скаковых лошадей, но ведь прежде он звонил своему маклеру.
Ксавье познакомился с Луизой в Лондоне, когда ей было девятнадцать, а ему двадцать девять и она дебютировала в английском свете. Случилось это на исходе 1914 года. В самом начале войны Ксавье был ранен и – к большому его бешенству и негодованию – уволен из армии по инвалидности. Познакомились они на одном из последних великолепных балов военных лет, дававшихся для представления начинающих выезжать молодых девиц великосветскому обществу. На ней было платье от Ворта самого нежного розового оттенка, на нем – форма французского офицера. Его раненая нога настолько окрепла, что он мог пригласить Луизу на танец три раза, а еще три танца они просидели, разговаривая. На следующий день он явился к ее отцу в их номер в «Кларидже» и попросил ее руки. Предложение его было принято спустя три недели, как того требовал этикет.
Они поженились в Лондоне, медовый месяц провели в шотландском поместье Сазерлендов, а когда война кончилась, поселились в Париже со своим двухлетним сыном Жан-Полем. В Европе Луиза, как прежде в Америке, вскоре прославилась своим шармом, вкусом и красотой. Их гостеприимство, щедрость и стиль стали присловием на двух континентах. И у барона де Шавиньи оказалось еще одно качество, какого никто от француза не требует: он был преданным и безупречно верным мужем. А потому семь лет спустя, когда Луиза де Шавиньи оправилась после рождения своего второго сына и вновь начала появляться в обществе, те, кто не знал ее близко, не сомневались, что блаженная жизнь течет по-прежнему. Да, был грустный эпизод, трудный период, но он благополучно миновал. Когда в 1927 году баронесса де Шавиньи отпраздновала свое возвращение в Париж из Ньюпорта покупкой всей весенней коллекции Коко Шанель, ее добрые приятельницы улыбались: «Plus зa change, plus c’est le mкme chose…»[4]
Те, кто знал ее лучше, – ее состарившиеся родители, муж, Жан-Поль и маленький мальчик, которого она не кормила грудью и видела редко, обрели совсем другую Луизу. Они обрели женщину, чья капризность возрастала от года к году, женщину, подверженную мгновенным и часто бурным сменам настроения, внезапному радостному возбуждению и столь же внезапной депрессии. Об этом не говорили. Прибегали к услугам и отказывались от услуг множества врачей. Барон де Шавиньи делал все, что было в его силах. Он дарил ей все новые драгоценности – гарнитур из идеально подобранных сапфиров, великолепное рубиновое ожерелье, которое фирма де Шавиньи создала для последней царицы и которое вихри революции вернули в руки барона. Луиза сказала, что рубины заставляют ее думать о крови, заставляют думать о подвале в Екатеринбурге. И наотрез отказалась носить ожерелье. Барон покупал ей меха – соболей такого качества, что каждую шкурку можно было продернуть сквозь обручальное кольцо. Он покупал ей породистых лошадей – например, чудесного ирландского гунтера, потому что ей нравилось скакать за гончими. Он покупал ей автомобили – «Делаж», «Испано-Сюиза», «Роллс-Ройс», спортивная машина, сделанная на заказ в мастерских Бугатти. А когда эти bagatelles[5] перестали ее занимать, отправился с ней путешествовать. По Англии. По Западному побережью Америки, где они были гостями на вилле Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса и где она ожила, но ненадолго. По Индии, где они остановились во дворце вице-короля и охотились на тигров с махараджей Джайпура. По Италии, где их принял папа. А оттуда снова в Англию. И назад во Францию.
Каждый вечер он провожал ее до дверей ее спальни.
– Зa va meieux, ma cherie?[6]
– Pas mal. Mais je m’ennuie, Xavi, je m’ennuie…[7]
И, уклонившись от его поцелуя, она закрывала за собой дверь.
В 1930 году, когда его жене было тридцать четыре года, а ему сорок пять, барон наконец последовал совету, который уже не один год выслушивал от своих приятелей, и завел любовницу. Он позаботился, чтобы Луиза узнала об этом, и, к его восторгу, в ней вновь ожил интерес к их браку. Физическая ревность заставила ее очнуться от апатии. И подействовала на нее даже слишком возбуждающе, как он со сжавшимся сердцем убедился, когда, вновь лежа в его объятиях, она настойчиво, маниакально допрашивала его:
– Она это делала, Ксави? А это?
Она откинулась на кружевных подушках, густые черные волосы рассыпались, обрамляя совершенное лицо, темные глаза блестели, пухлые губы были накрашены. Барон в нетерпении разорвал кружева ее неглиже, и это ей понравилось. Ее груди оставались теми же высокими, округлыми, юными, которые он всегда обожал, худощавое тело цвета густых сливок было гибким, как у девушки. Теперь она приподняла эти груди обеими руками и подставила их его жаждущему рту.
– Calme-toi, reste tranquille, je t’aime, tu sais, je t’adore…[8] Он взял в губы острые соски и начал нежно их целовать. Он обещал себе на этот раз медлить. Очень медлить. Он способен сдерживаться и доведет ее до оргазма раз, два, и три, прежде чем кончить, и она будет трепетать, будет льнуть к нему, как прежде. При этом воспоминании он отвердел, и она ощутила его движение у своего живота. И тотчас с лихорадочной настойчивостью оттолкнула его.
– Не так! Я этого не хочу.
Она говорила по-английски. Прежде в постели всегда был французский.