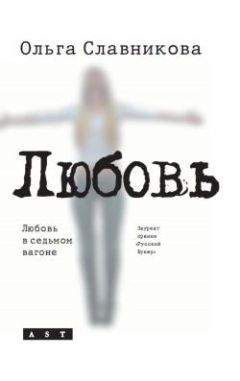Однажды, вернувшись домой из школы, Ханичайл увидела письмо. Она сразу узнала почерк Тома и с нетерпением вскрыла конверт.
Том писал, что начата постройка дома и по первому впечатлению он получается красивым. Он сам перестроил дом Элизы, и тот стал почти как новый, но Элиза редко там бывает, так как нашла себе работу за тридцать миль от дома, кухаркой в ресторане. Она чувствует себя хорошо, но очень скучает по Ханичайл.
«Я счастливый парень, — писал Том. — Я помогаю на газовой станции и в магазине, расположенном на шоссе, недалеко от Китсвилла. Много мне не платят, но я благодарен и за такую работу. Но лучше всего то, что я могу жить в старом доме на ранчо и присматривать за лошадьми, и они будут в хорошем состоянии к тому времени, когда у тебя появится возможность вернуться домой. Они будут ждать тебя, Ханичайл, это я тебе обещаю. Тебя будет ждать и ранчо Маунтджой, потому что я слежу, как продвигаются работы.
Наступит день, и засуха закончится, снова вырастет зеленая трава, и мы найдем новый источник воды. Я уже знаю место: там растет свежая молодая трава, Ханичайл, а это значит, ты уж поверь мне, что в этом месте под землей находится вода. Я одолжил у приятеля бур и намереваюсь приступить к работе. У лошадей пока есть корм, я объезжаю их каждый день, и мы все ждем тебя.
Когда-нибудь мы снова увидимся, Ханичайл. Ты должна в это верить. Ма говорит, что не умеет писать, но очень любит тебя и очень скучает. Том».
Ханичайл поднесла письмо к лицу и поцеловала подпись, словно целовала самого Тома. Хоть что-то хорошее случилось в ее жизни. Ей нестерпимо хотелось вернуться домой. Она решила, что просто скажет матери, что с нее хватит, и вернется туда. Или просто возьмет собаку и, не говоря ни слова, исчезнет. Но она понимала, что не сможет сделать ни того, ни другого. Она навсегда обречена жить в Силвер-Берч-Рентал-Парке с Роузи.
Жизнь Ханичайл была пустой и безрадостной, зато Роузи хорошо проводила время. Если она не может выступать на сцене, то ей вполне подходит салун. Она научилась хорошо смешивать коктейли и наливать пиво из бочки. Ну и пусть, что ей уже за сорок и она уже немолода, зато у нее все еще хорошее тело, широкая улыбка, да и походка что надо — посетителям-мужчинам очень нравится. Уж если кого из женщин можно назвать «потрясающей», так это Роузи Маунтджой Хеннесси. Она так же любила выпить и пропускала за вечер не одну порцию виски.
Когда около полуночи ее смена заканчивалась, всегда находился парень, который приглашал ее в другое место выпить еще по глоточку. И время от времени — потому что, в конце концов, она сейчас была работающей женщиной, а не какой-нибудь проституткой, о чём она непременно говорила им, — если парень ей нравился, она шла с ним в гостиницу, ведь лишние деньги никогда не помешают.
Разве она не должна выглядеть хорошо, часто говорила Роузи Ханичайл, демонстрируя новое яркое платье, новую нитку «жемчуга» или «рубины» и «бриллианты». «Если бы твой отец был жив, — добавляла она, — он непременно купил бы мне настоящие».
Спальня Роузи в жалкой маленькой лачужке была загромождена дешевыми безделушками: статуэтками кроликов, целлулоидными куколками. Она накупила ламп с бахромой из бисерин и с дюжину плюшевых подушек красных, розовато-лиловых и оранжевых цветов. Гроздья дешевых стеклянных бус и подделок под жемчуг свисали с зеркала ее туалетного столика, из ящиков комода торчало черное нижнее белье. Ее платья были развешены по стенам, а по всему полу разбросаны атласные тапочки с помпончиками из лебяжьего пуха вперемежку с туфлями на высоких каблуках и легкими босоножками алого цвета.
Время было за полночь, и Роузи впервые пришла домой так рано. Она сидела за столом с бутылкой виски. Стакан был наполнен до половины, растаявший лед растекался по столу, а бутылка была почти пуста.
— Эта комната похожа на мою уборную, когда я была звездой, — сказала она Ханичайл, оглядывая свою спальню. Закурив сигарету, она сделала еще один глоток виски. — Ты ведь не знаешь, что твоя мать была звездой? — спросила она с мечтательным выражением лица. — Я была лучшей стриптизершей. Так все считали. И моя задница была гораздо лучше, чем у Джо-Джо, хотя она всегда заявляла, что ее задница — самое ценное, что у нее есть. — Роузи рассмеялась. — Представляешь себе, Ханичайл? — спросила она, подмигивая.
Ханичайл устало кивнула. Она слышала это в сто первый раз.
Роузи сунула ноги в туфли без задников на высоких каблуках и прошлась по комнате, волоча полы халата.
— «Шепчи мне нежные слова, держа меня в своих объятиях», — пропела она, приняв позу. — Дум де дум де дум, вум, — промычала она, с пьяной усмешкой распахивая халат. — Да даж, де дах, де дах. — Стряхнув на пол пепел, она повернулась к Ханичайл, показывая ей свои прелести. Снова сунув сигарету в рот, она приняла свою знаменитую позу. — Ну, что скажешь? — спросила она. — Все еще хороша?
Ханичайл отвела взгляд.
— Не знаю. Я не видела тебя раньше. Когда ты была звездой.
Роузи подозрительно посмотрела на дочь: нет ли в ее словах сарказма?
— Ну ладно, — сказала она, плюхаясь на софу и вынимая изо рта сигарету. — Просто запомни, девочка. Это правда. Твоя мать была звездой. Вот почему твой отец запал на меня. Он увидел меня идущей по улице и втюрился.
Вздохнув, Роузи затушила сигарету и сделала большой глоток виски.
— Я могла бы сделать хорошую карьеру, выступать на лучших подмостках Нью-Йорка, но я все бросила ради любви. — Она криво усмехнулась. — Я была просто молодая дура.
Роузи снова наполнила стакан и, залпом осушив его, продолжила:
— Ах, Ханичайл, в те дни мы с твоим отцом пили французское шампанское, и ты даже представить себе не можешь, сколько оно стоило во времена «сухого закона». С тех пор я никогда не пила такого шампанского.
Роузи снова закурила и продолжала болтать, скорее для себя, чем для Ханичайл:
— Он купил мне пелерину из горностая, такую белую, такую мягкую… — Она дотронулась рукой до щеки, вспоминая, каким нежным был мех. — Господи, каким же красивым он был, каким сексуальным… Я сразу решила, что этот мужчина для меня. Молодой, богатый, сексуальный. Что лучше может желать девушка?
Роузи откинула голову на диванные подушки.
— Мне следовало бы знать, где у меня ловушка, — пьяным голосом заметила она, глядя в упор на Ханичайл. — А у меня их было целых две: ранчо, которое погубило мою жизнь, и моя дочь.
Ханичайл больше не могла слушать мать. Она выбежала за дверь, а за ней следом собака. Засунув руки в карманы и опустив вниз голову, Ханичайл бесцельно бродила по улицам, вызывая удивление редких прохожих: час был поздний, и на каждом шагу девочку подстерегала опасность. Она не знала, куда идти, и брела до тех пор, пока не оказалась на вершине холма, где росло несколько деревьев.