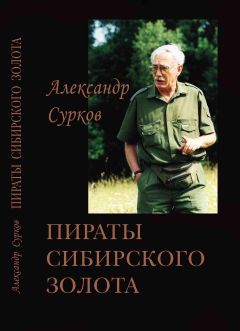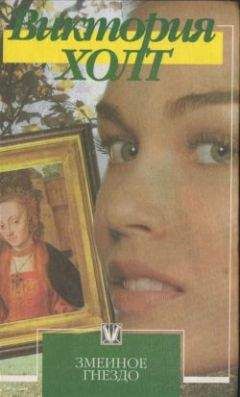Когда Розали начала свой двадцать первый заход, в шапито почти никого уже не было.
Среди оставшихся – светлоголовый мальчик и тот злюка зритель, который орал. На дальнем ряду, почти у купола цирка, две пожилые дамы очень громко обсуждали предмет спора и обе считали, что у пятнадцатилетней девочки еще не так много ума, чтобы самой выбирать, за кого ей выходить замуж. Почти все артисты успели переодеться и вернулись в шатер. Мальчик на первом ряду вытащил сигарету и закурил.
“Здесь нельзя курить!” – сердито закричал директор. И мальчик, стряхнув тлеющий пепел прямо на опилки манежа, встал и ушел.
Локоны на лбу Розали уже выпрямились от пота. Ее рот стал похож на резко прочеркнутый штрих, а она все ходила и ходила вперед-назад по проволоке. Когда мальчик вышел из шатра, у Розали заныла рука. Розали вдруг почувствовала, что устала от тяжести балансира, вообще она очень устала, глаза ничего не видели от пота и слез.
Отец, весь бледный, зашел за занавеску в каморку за табаком.
“Можно выключить основной свет! – раздался крик одного рабочего сцены. – Освещение всей арены жрет слишком много газа”.
Рабочий забирался к каждой лампе, тушил одну за другой, остались гореть только огни рампы.
А Розали все ходила по проволоке. Это длилось так долго, что она уже позволяла себе отвлечься на разные мысли. Я буду директором цирка, думала она, и ничего не происходило. Но, когда она вспоминала, что мальчик и публика ушли из цирка, шест качало в сторону силы. Никто меня не видит, сетовала она, балансируя на проволоке, стараясь нагнуть шест в сторону веры, чтобы сохранить равновесие.
Во что я верю? – продолжала она раздумывать. Верю в звезды и их сияние. Верю в любовь, верю, что он, этот светловолосый мальчик, придет опять сюда завтра. И я брошу ему еще один шарик, завтра не будет дополнительного номера, так что я успею догнать его, когда он пойдет к выходу. Мы прогуляемся вокруг шатра, он спросит, почему я бросаю ему шарики, и я засмеюсь. Потом он, чуть стесняясь, расскажет, что у него нет работы, но его заветной мечтой всегда было путешествовать с бродячим цирком. Я поговорю с отцом,и мальчику разрешат ездить с нами, и мы будем тренироваться вместе и станем лучшей акробатической парой.
Ой нет, я же буду директором цирка, напомнила она себе, когда шест вновь качнулся.
Четыре часа утра, арена залита призрачной дымкой. Отец сидит на рампе, задремал. И Розали в первый раз за несколько часов решилась передохнуть. Она присела на один из красно-белых табуретов, так, чтобы ни в коем случае не коснуться ногой пола, ни правой, ни левой. Вокруг нее на манеже собрались бродячие коты. Они откапывали в затоптанных опилках рыбные кусочки, которые остались после выступления морского льва. Свет рампы давно потушен. Серый рассвет пробирался сквозь щели шатра внутрь. Один из котов, черный, взъерошенный котик-кисуля, нагло пробрался между отцовскими ступнями к серебристому кусочку рыбы и вонзил в добычу острые клычки. Директор цирка вздрогнул; глянув вверх, увидел свою дочку. Розали, спешно поднявшись, повернулась лицом к проволоке и остановилась. Тишина манежа наполнила ее грудь, приглушила все тревоги, словно бальзам, нанесенный на рваную рану.
“Отец, – сказала Розали, – я выдержала испытание”.
“Нет”, – возразил он. Он не мог даже вообразить, что скажет нечто другое.
“Да, – настаивала Розали, – я выдержала. Я сама так решила. Все теперь решилось”.
Она осторожно опускает обе ноги на пол, стоит перед отцом, утомленная, но счастливая. А тот весь поник, измотанный до передела.
“Сердце мое, – сказал он, – ты не выдержала испытание, ты только поняла, какое оно”.
“Нет, я выдержала. Так ты научишь меня, как стать директором цирка?”
Он погрузился в раздумье. И увидел себя как бы со стороны: он разговаривает со своей дочкой как со взрослой, рассказывает ей о контрактах, обсуждает артистов. Он видел, как в один прекрасный день он передает ей свою плетку с золоченой инкрустацией и как его дочь стоит посреди арены, окруженная лошадьми, акробатами, клоунами, наездниками, танцовщицами на проволоке, жонглерами, – директриса с задорно торчащим хвостиком и детской фигуркой.
Настоящая пародия, карикатура на меня. Словно бы я стал белым клоуном, подумал он.
“Нет, – повторил он, – не стану я учить тебя тому, что должен уметь директор цирка”.
“Тогда я пойду своей дорогой, – сказала Розали. – Ведь ты научил меня держать равновесие”.
И она ушла из шатра, даже не обернувшись на крик зовущего ее отца.
* * *
– На полу мастерской полно черных кошек, – бормочет Тереза, открывая глаза.
Длинный коридор с желтыми стенами и лампами дневного света. Вдалеке – стеклянная дверь, по ту сторону двери светло, и стекло блестит, переливается.
Рука у нее крепко забинтована. В изножье кровати кто-то сидит, светловолосый, у Терезы слегка закружилась голова, наверно, какой-то знакомый…
Она поднимает голову с подушки.
– Симон, – говорит она осторожно, – это ты?
Симон поднимается и подходит ближе. В одной руке у него газета “Афтонбладет”, в другой – шоколадка, которую он почти всю съел, и бумажная обертка свисает, словно завитки серпантина.
Давно он сидит здесь? – с удивлением думает Тереза.
Симон смотрит нежным взглядом и какой-то весь торжественный.
– Привет, Тереза, – говорит он.
– Привет, привет. – Тереза хочет встать с кровати, но все тело отяжелело и не слушается.
– Я в больнице, да?
– Да.
– Хм. – Тереза поднимает руку, чтобы получше рассмотреть большую белую повязку.
– Я, – говорит Симон очень серьезно, а сам весь сияет от гордости, – я спас тебе жизнь. Хочешь? – Он протягивает ей остаток шоколадки.
– Нет, – отказывается Тереза и улыбается. – А как ты спас мне жизнь?
– Своим носком. Доктор сказал, что тебе необыкновенно повезло, что я оказался там. Кровь била фонтаном, никогда не видел такой жути.
– И что ты сделал? – Терезе стало любопытно. Она чувствует, как болит рука, но все это: и боль, и Симон – все словно вдалеке, а главное – страшная усталость, голова словно ватная.
– Я вышел через дверь на балкон и увидел тебя. И кровь. Сам не понимаю, как я мог так быстро сообразить, но я сообразил, Тереза, я кинулся к тебе и схватил твою руку. Ты ведь упала! Я притащил тебя в комнату, и там ты опять упала. Я знал, что надо чем-то перевязать руку, в жизни не видел столько крови… но у меня ничего не было под рукой, то есть нечем было перевязать, и тогда я стянул с себя носок, и обвязал им твою руку, и стал затягивать, туго, насколько мог. Это должно было остановить кровь. А потом телефон! Нужно было вызвать “скорую”. Ты была такой тяжелой, а мне приходилось еще держать твою руку поднятой вверх, пока я тащил тебя к телефону, высоко, насколько мог, я потом еще сильнее затянул повязку, но все равно из раны хлестала кровь.