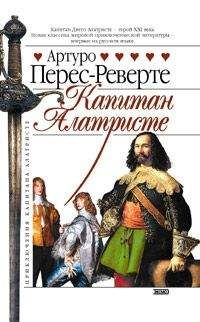Ознакомительная версия.
— Принято думать, что шахматы — это цепь гениальных импровизаций, — продолжает меж тем Меча Инсунса. — Это не так. Шахматы требуют научных методов, потому что в поисках новых идей надо изучить все возможные ситуации. Хороший игрок помнит ход тысяч партий, своих и чужих, и старается улучшить их новыми вариантами; он изучает своих предшественников, как учат иностранный язык или алгебру. При этом он опирается на целый штат помощников, аналитиков, тренеров… я говорила тебе про них утром. И сейчас у Хорхе несколько таких. Один из них — его учитель Эмиль Карапетян, который сопровождает нас повсюду.
— И у русского — так же?
— Да, разумеется. Помощники всех видов. Его даже сопровождает какой-то чин из посольства. Представляешь? В Советском Союзе шахматы — дело государственной важности.
— Я слышал, команда русского целиком арендовала особняк в парке неподалеку от «Виттории». И там даже есть люди из КГБ.
— Ничего удивительного. У Соколова свита — человек двенадцать, хотя матч на приз Кампанеллы — всего лишь подступ к чемпионату мира… Через несколько месяцев, в Дублине, у Хорхе будет четверо или пятеро аналитиков, секундантов и тренеров. Можно себе представить, сколько народу привезут русские.
Макс коротко прихлебывает из стакана.
— А у вас сколько?
— Со мной — трое. Кроме Карапетяна, нас сопровождает Ирина.
— Я думал, это невеста Хорхе.
— Так и есть. Но еще и очень сильная шахматистка. Ей двадцать четыре года.
Макс воспринимает все это так, будто впервые слышит о ней.
— Русская?
— Родители югославы, но родилась в Канаде. На Олимпиаде в Тель-Авиве была в сборной. Она входит в число десяти-пятнадцати сильнейших шахматисток мира. Гроссмейстер. Вместе с Эмилем Карапетяном составляет постоянное ядро нашей команды.
— Ну а как невестка она тебе нравится?
— Могло быть хуже, — отвечает Меча невозмутимо, не принимая игривый тон, предполагаемый улыбкой Макса. — Характер у девочки непростой, как у всех шахматистов. И в голове такое, о чем мы с тобой и не подозреваем. Но с Хорхе они понимают друг друга с полуслова.
— А в качестве ассистентки, аналитика или как их там?..
— Да. Очень полезна.
— И как же ее воспринимает маэстро Карапетян?
— Хорошо. Поначалу ревновал и рычал, как пес над костью. «Пигалица, девчонка, что она понимает…», ну, и прочее в том же роде… Но она — из тех, кто себя в обиду не даст: сумела поставить его на место.
— Ну а ты?
— Со мной все иначе. — Меча допивает кофе. — Я — мать, понимаешь?
— Понимаю.
— И мое дело — смотреть издали. Внимательно, но издали.
Слышны голоса американцев — они проходят за спиной у Макса и удаляются в сторону дороги, вьющейся вдоль стены и ведущей к самой возвышенной части Сорренто. И снова становится тихо. Меча задумчиво разглядывает красные и белые квадраты скатерти, напоминающей шахматную доску.
— Есть такое, чего я дать своему сыну не могу, — вдруг произносит она, вскинув голову. — И не только в том, что касается шахмат.
— И как долго ты намерена…
До тех пор, пока ему это будет нужно, отвечает она без колебаний. До тех пор, пока Хорхе хочет, чтобы она была рядом. Когда наступит конец, она, надо надеяться, все сообразит сама и вовремя, тихо и незаметно исчезнет без мелодрам. В Лозанне у нее — хороший удобный дом, много книг и пластинок. Библиотека… Будет жить так, как ей хотелось все эти годы, но не получалось. Жить, а потом, когда придет время — мирно окончить свои дни.
— Я тебя уверяю — до этого еще очень далеко.
— Ты всегда был льстецом, Макс… Изящным мошенником, обворожительным жуликом.
Он с напускной скромностью — как если бы эта колкая похвала казалась ему чрезмерной — опускает голову. И на лице появляется утонченно-светское выражение, словно говорящее: «Ну, что я могу на это сказать? Да еще в наши-то годы?»
— Я когда-то — давно уже, много лет назад — прочла какую-то книжку и подумала о тебе… Дословно не помню, но смысл передаю довольно точно: «Тем, кто обласкан женщинами, проходить долиной теней не так мучительно и не так страшно». А? Какого ты мнения на этот счет?
— Звучно и выразительно.
Повисает молчание. Меча теперь вглядывается в черты его лица так, словно пытается узнать их вопреки переменам. Глаза ее мягко лучатся в свете бумажных фонариков.
— Неужели ты так и не был женат, Макс?
— Нет. Побоялся, что это скажется на моей способности пройти долиной теней, когда понадобится.
На раскат ее по-девичьи звонкого, чистосердечного и звучного смеха оборачиваются Ламбертуччи, официант и повариха, все еще толкующие о своем в дверях ресторана.
— Ах, чтоб тебя!.. Ты по-прежнему не лезешь в карман за словом… И как же быстро присваиваешь себе чужое!
Макс проверяет, не слишком ли сильно вылезли из рукавов пиджака манжеты сорочки. Он терпеть не может нынешнюю манеру — когда манжет виден почти целиком, — как, впрочем, и зауженные талии, чересчур широкие галстуки, длинные воротники рубашек, тесные в бедрах и сильно расклешенные брюки.
— Ты в самом деле иногда вспоминала обо мне за эти годы?
Спрашивая, он глядит в ее золотистые глаза. Она чуть склоняет голову набок, продолжая рассматривать его.
— Признаюсь. Вспоминала. Иногда.
Макс прибегает к самому безотказному своему оружию — перед этой внезапно вспыхивающей белоснежной улыбкой, так оживляющей его лицо, в былые дни не могли устоять даже самые закаленные кокетки.
— Даже если тогда не звучала «Старая гвардия»?
— Даже тогда, — принимая игру, отвечает Меча с легким кивком и слабой улыбкой.
Приободренный Макс решает уподобиться тореро, который, чувствуя, что симпатии публики — на его стороне, хочет продлить поединок. Кровь ритмично пульсирует в старых артериях; он уверен и тверд, как во времена былых приключений, и чувствует чуть лихорадочную бодрость, какая бывает, когда после бессонной ночи запьешь кофе две таблетки аспирина.
— А ведь мы с тобой, — с полнейшим спокойствием произносит он, — встречались только трижды: в первый раз — на пароходе, во второй — в Буэнос-Айресе в двадцать восьмом году, а потом — в Ницце девять лет спустя.
— Вероятно, у меня всегда была слабость к негодяям.
— Просто я был молод, Меча.
Эти слова он сопровождает еще одним верным и испытанным номером из своего репертуара — скромно поникает головой и легким небрежным движением левой руки как бы отметает все наносное и лишнее. А под лишним и наносным подразумевается все вокруг за исключением той, что сидит напротив.
— Да. Я же и говорю: молодой обольстительный негодяй. Тем и жил.
Ознакомительная версия.