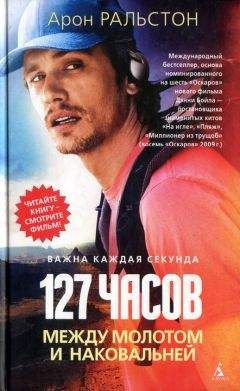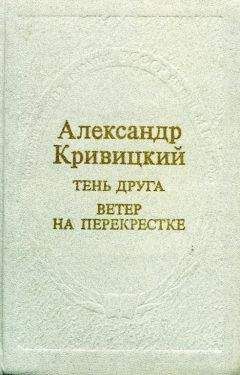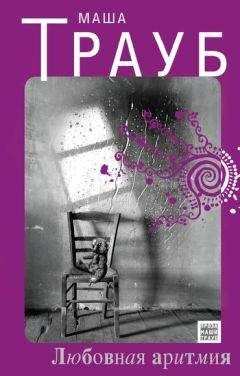– Денег я тебе не даю? – вспылил Гаврилов. – Каши тебе купить не на что? Кому ты это говоришь? Мне? Да я тебе всю квартиру барахлом забил! На одни эти чертовы розы кашу год можно жрать! Ты думаешь, потому его прикончила, что денег нет? Да до хрена у тебя денег! Просто связываться не захотелось – так и скажи.
Он схватил с подоконника вазу с розами, швырнул ее на пол и стал топтать цветы ногами. Но злобы – настоящей злобы – уже почти не было, и он чувствовал это. Вскоре он остановился и, тяжело дыша, опустился в кресло.
Гаврилов точно не помнил, сколько времени он просидел так, а потом поднял глаза и увидел, что Катя смотрит на него. Она смотрела на него робко, покорно, как когда-то, когда их роман только ещё начинался и он играл ей на гитаре. Гаврилов почувствовал, что, захоти, он сможет сейчас остаться у этой испуганной, растерянной женщины, которая убила своего ребенка потому только, что он был еще слабее, чем она, и никого не было рядом, чтобы ее остановить. И еще Гаврилов почувствовал, что, не улети он в Челябинск, а останься в Москве, ребенок выиграл бы свой бой, и слабая мятущаяся женщина смирилась бы и пошла по дороге, по которой шли до нее тысячи других. Но теперь уже ничего нельзя было изменить.
Ребенок, этот счастливый везунчик, отправился в ведро или куда они там отправляются? Почему везунчик? Да само появление ребенка было почти чудом, учитывая обычную осторожность Кати.
– Послушай, а вот сегодня… зачем ты мне сказала об аборте? Ну сделала бы и сделала, раз раньше не советовалась. Нет, тебе хотелось унизить меня, хотелось, чтобы мне было больно?!
– Отстань от меня! Уходи! Я думала, пожалеешь, а ты терзаешь…
Гаврилов устало поднялся, глядя на дверь. Катя вздрогнула, шагнула к нему, чтобы удержать, но вместо этого крикнула:
– Уходи и больше не приходи! Слышишь! Никогда!
Гаврилов обулся, снял с вешалки плащ, поднял чемодан и, ощущая себя театральным страдальцем, вышел на площадку. Лифта он ждать не стал – спускался по лестнице. А она всё бежала за ним по ступенькам и не то кричала, не то бормотала:
– Подожди, подожди! Никогда больше не приходи, убирайся! Вон пошел! Да постой, тебе говорят! Куда же ты?
1Он о ней понемногу рассказывал. Приучал к ее существованию. Узнав, что у него есть та, другая, Дина даже не нашла, чем бы отшутиться. Возмутилась, но не подала виду. Обрывала листочки кустов и деревьев, жестоко кромсала их в мелкие зеленые конфетти. Кусала нижнюю губу, искоса поглядывая на него, всем своим видом многозначительно восклицая: «Может быть, хватит уже о ней!» Но он не замечал немых возгласов, не замечал зеленых конфетти отчаяния и все говорил-говорил, рассказывал самозабвенно.
Когда они познакомились с Диной, у него с той, другой, как раз был период натянутых отношений. Вроде бы шло к разрыву. Говорят, такое случается у каждой пары. Каждые четыре года наступает сложный период, любовь и привязанность истончаются, взаимная сила трения возрастает, и вдруг быть вместе становится очень трудно. Так говорила и телеведущая в лиловом костюмчике. Однажды в субботу транслировали телемост между тремя городами. Разные люди, случайно остановленные на улицах, подтверждали, что да, четыре года – особый рубеж отношений. В этот период двое начинают сильно раздражать друг друга, подумывают о расставании. Вдруг, как-то сами собой всплывают и вспоминаются взаимные обиды и недосказанности. Недостатки начинают просвечивать все отчетливей. А повседневные привычки раздражают. Это подтвердила и мумиеподобная старушка в плащике и шифоновой косынке. Она кокетливо и жеманно поправляла вихрастые седые волосы дрожащей костлявой рукой с перстнем. И ее слова почему-то казались похожими на правду.
Все, о чем говорили в той субботней телепередаче, было и у него с той, другой, когда он познакомился с Диной. Они практически расстались. Так поначалу думала Дина. Но потом оказалось, что она ошиблась.
Он все чаще примирительно шептал: «Понимаешь, мне трудно представить себя без нее: с тринадцати лет мы неразлучны. Даже думать боюсь, что я буду делать, как я буду жить без нее. Она – уже часть моей жизни. Даже часть меня. Как большой палец. Как кадык. Или локоть». И Дина молча шла рядом, кивала, старалась быть милой, а про себя шипела, мысленно обращаясь к той: «Ну-ну, поплачешь ты у меня». А еще, когда он рассказывал о другой, то переставал видеть и замечать все вокруг. Он говорил, сильно повышая голос, будто бы желал перекричать и в чем-то убедить весь этот город с его пасмурным октябрьским небом, но прежде всего – убедить самого себя.
Часто по вечерам он и Дина встречались на пригорке, возле баскетбольной площадки. На краю оврага высились серые девятиэтажки, в просвете между домами виднелись грязно-бежевые башни немецкого посольства, по левую сторону, в метре от оврага тянулись ржавые трубы теплотрассы. В низине за лужайкой, по которой носились дети, а мальчишки бросали друг другу красную тарелку, был лесопарк.
Дожидаясь, когда он придет, Дина наблюдала за игрой в баскетбол компании парней. Все они были старшеклассники или студенты первого курса. Молочно-взведенные, развинченные, с напускной грубоватостью. Уже не мальчики, еще не мужчины. Всю ту весну, ожидая его, Дина наблюдала за их игрой в баскетбол, вскоре стала разбираться в правилах. И, кажется, немножко узнала о каждом баскетболисте. Ожидая иногда десять, иногда пятнадцать минут, она узнала, что высокий парень в фиолетовой кофте с капюшоном забрасывает мяч в кольцо, чуть подпрыгнув. Он вытягивает руки и весь как бы замирает в прыжке. А потом красиво бросает мяч, но не всегда метко. Кажется, у него пьющий отец, которого парень немного стесняется. Как-то раз этот невысокий седеющий человек с разбитым носом, спотыкаясь и стараясь казаться бодрым, добрел до площадки, подозвал парня в капюшоне и передал ему ключи.
Приземистый широкоплечий мачо с соломенными волосами всегда мажет мимо кольца, зато отлично передает мяч другим. А костлявый высоченный парень в майке и синей бандане забрасывает практически с любого места площадки.
Баскетболисты тоже заметили Дину. Через пару недель при ее появлении они стали оживленно подмигивать друг другу и громко, натужно ржать. Еще через пару недель некоторые из них, заметив Дину, кивали ей или с напускным безразличием, преодолев смущение, сипели «привет». Обретя зрителя, они начинали картинно двигаться по площадке. Некоторые скидывали майки, обнажая худые, юношеские тела, обросшие золотистым пушком. Они кричали друг другу, матерились, густо сплевывали длинные плевки на гравий площадки, забросив мяч в корзину, всегда украдкой поглядывали в ее сторону, ожидая одобрения. Они обливались ледяной водой из бутылок и жадно пили. Если мяч перелетал через сетку и прокатывался по асфальтированной дорожке, Дина бежала за ним, ловила, швыряла им. И этот высокий, в фиолетовом капюшоне, замерев, наблюдал за ее движениями, потом шел к противоположному краю площадки, обливал голову водой из пластиковой бутылки и курил, украдкой поглядывая на Дину из-под бровей. Приободренная вниманием, она расправляла плечи, приглаживала волосы, с вызовом оборачивалась к арке ближайшего дома. И шипела про себя, обращаясь к той, другой: «Погоди у меня!»