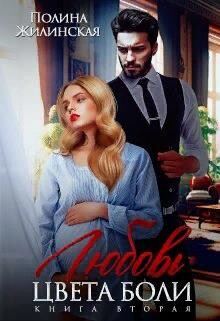Сминаю пустую пачку от сигарет и рывком открываю дверь. Выхожу на улицу и быстро иду к подъезду. Пролет за пролетом, мелькают выкрашенные в зеленый цвет стены. Сердце грохочет в груди, больно ударяясь о ребра. Жму на кнопку звонка, не позволяя себе передумать и трусливо сбежать. Хотя очень хочется.
Не знаю, для чего я это делаю, но чувствую, что поступаю правильно. За этой дверью кроется мое освобождение, пусть новая встреча и раздерет меня снова на куски.
Тихие шаги по ту сторону, три поворота ключа в замке — и дверь распахивается.
Я вглядываюсь в постаревшее морщинистое лицо матери с затаенным страхом, что опять не узнает. Впитываю в себя ее образ. Седые волосы аккуратно собраны в гульку на затылке, иссохшее тело прикрывает повидавший виды, но чистый халат с ромашками, руки судорожно вцепились в ворот.
Узнала.
— Впустишь? — мой голос дрожит.
Она молча сторонится, так ни разу и не взглянув мне в глаза.
Захожу в квартиру, отмечая взглядом чистый пол, дешевые обои и старенькую, покосившуюся мебель. Разуваюсь и иду на кухню.
Мама садится на табуретку у окна, я — за стол. Мы молчим, глядя друг на друга. Нас разделяет пропасть глубиной в целую жизнь.
Сухие плечи начинают трястись от плача, и мама закрывает лицо руками, отворачиваясь к окну.
— Прости меня, сынок, — сквозь сдавленные всхлипы впервые за столько лет слышу ее голос.
Голос, который преследовал меня одинокими ночами, когда я рыдал в подушку на узкой койке, лишенный материнского тепла.
— А Назар? — утирая слезы платком, смотрит на меня несмело.
— Назар погиб. Скоро полтора года будет.
— Ох, — по морщинистому лицу пробегает судорога боли. — Мой мальчик, — мать шепчет, уставившись пустым взглядом в стену за моей спиной. — Может, ты мне и не поверишь, но я пять лет ежедневно молила Бога, чтобы успеть увидеть вас перед смертью. Хоть глазочком, хоть издалека. Мне тяжело… Ты не представляешь, какой груз у меня на душе. Я бы отдала всё на свете, чтобы только обернуть время вспять, сынок… попытаться исправить всё.
— Нам тоже было нелегко, знаешь ли, — горечь подкатывает к горлу. — Я ждал тебя годами, мам. Просыпался, садился у окна и ждал. Каждый раз, когда видел женский силуэт у ворот, верил, что это ты. Я засыпал с мыслями, что наступит завтра и ты обязательно придешь. Но заветное «завтра» никак не наступало. А потом я начал винить себя, считать плохим, раз ты меня бросила. Ведь хороших детей не бросают родители. Я вырос моральным уродом, мам, с низкой самооценкой, удушливым страхом быть отверженным, снова оказаться никому не нужным, уживался с чувством стыда, вины и гнева. А когда стал отцом, от мысли, что я могу завтра не услышать детский голосок, не прижать к себе светлое, беззащитное создание, сразу подохнуть хочется.
Поднимаюсь на ноги и подхожу к маме, которая тихо плачет, глядя на меня с неприкрытой болью и раскаянием. Присаживаюсь на корточки, обхватывая ладонями морщинистые теплые руки.
— Я никогда не смогу понять и принять твой поступок. Ты поступила вероломно, и не существует никакого оправдания тому, что мать оставляет свое дитя. Но я тебя прощаю, мам.
Опустив голову, утыкаюсь лбом ей в колени и прикрываю глаза, когда ладонь несмело касается моей щеки, проводит по волосам.
Глубоко в душе я с пяти лет мечтал еще хоть раз в жизни ощутить тепло материнских рук. Не знаю, сколько так сижу, боясь пошевелиться и спугнуть момент.
Отстраняюсь, заглядывая ей в лицо. Запоминаю каждую морщинку, робкую улыбку, светящиеся теплым светом глаза, прозрачные слезинки, медленно стекающие по впалым щекам.
Поднимаюсь на ноги, отворачиваюсь, сдавив пальцами переносицу. Запрокинув голову, выдыхаю шумно. Достаю из внутреннего кармана куртки свою визитку, конверт с фотографией внучек и увесистой пачкой купюр. Осторожно кладу на стол.
— Я не приду больше, — не оборачиваясь, говорю тихо сквозь душащий ком в горле. — Из уважения к твоему возрасту, если нужна будет помощь, помогу. На визитке мой номер. Прощай, мама.
Не давая себе шанса передумать, выхожу в коридор, быстро обуваюсь под душераздирающие всхлипы из кухни. Вываливаюсь из подъезда, тяжело дыша, в груди печет невыносимо, а перед глазами образ несчастной старушки, обреченной в одиночестве доживать свои дни.
Я думал, станет легче. А стало гораздо хуже.
Еду домой, к моим девочкам, разрываемый противоречиями и адской болью в груди. Я поступил сейчас так, как поступила когда-то моя мать.
Только с одной разницей — я ощущаю себя полным подонком.
Переступаю порог дома, сразу с головой окунаясь в особую атмосферу лучезарных беззубых улыбок и звонкого детского смеха.
Обнимаю со спины Олю, удобно устроившуюся в кресле с одной из малышек на руках. Мягко целую по очереди своих девочек. Подхватываю на руки вторую дочку, отрывая от важного занятия — облизывания ножки кофейного столика. Детское личико уже искажает гримаса капризного плача, но Соня тут же переключает свое внимание на мой гладко выбритый подбородок и с радостным кличем непобежденного индейца вгрызается в меня беззубым слюнявым ртом.
— Сонь, папа уже старый и невкусный, — перехватываю удобнее малышку, любуясь пухлыми щечками и смешным маленьким хвостиком на кучерявой головке.
Дочка что-то лепечет на своем тарабарском, так и норовя укусить меня за нос.
А я залипаю взглядом на Оле со второй дочкой на руках. На плавных движениях, на том, с какой теплотой и любовью смотрит на нас, на мягкой улыбке.
И только сейчас, кажется, до конца понимаю простую истину: не все женщины такие, как моя мать.
Конец