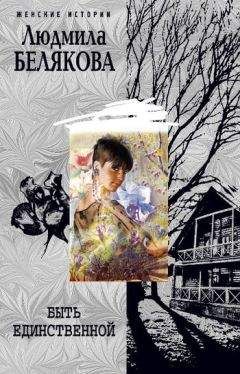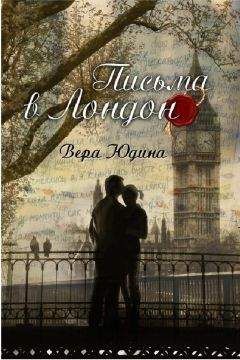Проснулась – или, вернее сказать, очнулась – она уже к вечеру, когда в окошки заглянули низкие закатные лучи. Багровое солнце садилось в сизое, плотное облако – как безвозвратно тонуло.
Приподнявшись, Маша сразу вспомнила про деньги и, хоть и отлежала все свои старые кости, поплелась проверять наличие. Так ее подкосил этот странный отказ Феоктистовой – сама не своя была… Деньги, к счастью, были где надо – там же в плаще, в самодельном внутреннем кармане. Маша перепрятала их в буфет в парадной комнате и принялась стряпать ужин, горестно обдумывая свою неудачу.
«Наверное, Галька подумала, что я ее под монастырь подвести хочу! – запоздало додумалась Маша. – Деньги подкинуть и позвонить куда надо… Она-то все меня милицией пугает – видать, сама боится. Торгашка же. Они все пуганые. Вот в чем дело-то!»
Не надо было идти так на пролом. Знала б Маша, где она живет, домой бы зашла… А то на работу к Феоктистовой поперлась!.. Да, незадача.
Но до окончания этого кошмарного дня Маша все-таки придумала, как всучить эти треклятые миллионы Феоктистовой. Она подкараулит Гальку вечером, когда та пойдет домой. И попробует всучить пакет на улице. Ага! Или проследит до дома и все-таки спровадит ненавистную разлучницу ко всем чертям. Тяжко, конечно, но что делать! За сыночку любимого Маша еще поборется, поборется!
… Машино больное сердце впервые за много лет пело. Феоктистова, поверив, очень, правда, туго и неохотно, что Маша деньги не украла и дает безо всяких условий, кроме одного – немедленного исчезновения, – пакет приняла.
– Вот и уезжай скорей!
– Да с деньгами-то без проблем – хоть вчера, – пожала она плечами, задумчиво оглядывая Машу: а ну какой-то подвох под этим все-таки есть.
– Вот и давай! И чтоб Вадик ничего не знал! Это уж мое условие.
– Как скажете, Марь Степанна, – скромно потупила глазки Феоктистова.
«Вот спровадила я ее, спровадила! А? Добилась своего!»
На следующий день, впервые за три последние недели, пришел навестить Машу Вадик.
– А чего это? – удивился он красной рыбе и сервелату.
– Пенсию прибавили, – соврала Маша.
– Да? Не слышал.
«Гальку твою пропиваем, вот чего ты не слышал! Была да сплыла!»
Вид у младшенького был вполне обычный – так что, вероятно, Феоктистова все еще была в городе… Но ничего, ничего!.. Скоро он поймет, что его бросили, и вернется домой. К маме. У Маши скоро день рождения, дата круглая – шестьдесят пять, и отмечать ее они уже будут вместе. Вместе!
А пока придется подождать. Но скоро, скоро!..
В ноябре все-таки вступило в свои права обычное среднерусское предзимье – выпал первый снег. И по этому первому снежку в воскресенье припожаловал к Маше нежданный, а вернее, крепко забытый гость.
Маша очень удивилась, разглядев нечаянно в кухонное оконце своего благодетеля – Голованова. Он расхаживал по двору, ковыряя носком массивного башмака дорожку, покрытую битым кирпичом, – была когда-то в Выселках такая мода.
– А, Марья Степановна, – вскинул он подбородок. – А чего это вы вроде не собираетесь?
– А куда это я собираться должна? – еще больше удивилась Маша.
– Как – куда?! – тоже сильно удивился Голованов.
Он уверенно, как хозяин, прошел мимо чуть озадаченной Маши на кухню, потом исчез в глубине дома и едва не сбил ее с ног, быстро вернувшись.
– Вы, я гляжу, и вещи-то собирать не начали, – недовольно посмотрел он на Машу с высоты своего роста. – Вы давайте, давайте.
– Ка-какие вещи? – чувствуя, что откуда-то из неведомых глубин на нее поднимается с целью уволочь с собой леденяще-холодная вязкая масса, спросила она.
– Ваши – не мои же, – хмыкнул Голованов, выпятив нижнюю губу. – Если надо, я посочувствую вашему положению, машину подошлю. Только вы пооперативнее. Уж когда деньги получили-то – пора бы уж. А? – Он покрутил пальцем.
– Ш-што-о? – прошептала Маша.
– Марь Степанна, – вытаращил на нее блекло-серые глаза Голованов. – Вы мне участок продали?
– Про-да-ла, – едва ворочая языком, ответила Маша.
– Деньги все получили?
– Получила…
– Так и освобождайте участок. Вещички там, имущество ваше. Я ведь вас, между прочим, не просил – вы мне сами предложили.
– А дом, дом-то я не продавала? – вдруг воспрянула духом Маша. – Дом-то мой!
«Ишь ты – гнать меня вздумал!»
– А я на ваши хоромы и не претендую, Марь Степанна, уважаемая! Продавайте, разбирайте, ставьте на новом месте – мне без разницы. Земля здесь моя, до последнего камешка, а что ваше – то ваше. Мне чужого не надо.
Голованов, громко стуча подошвами, ушел, а Маша, ощупью добравшись до своей комнаты, тяжко опустилась на кровать.
«Ох, что же это творится-то, а?! Из дома меня гонят… Да, участок я ему продала. А дом разве продавала?… Или как он это вывернул: «Земля моя, а остальное забирайте…» Куда ж я это все заберу-то?»
Маша просидела так очень долго, пока ее не стал беспокоить едкий запах гари. Она встрепенулась и бросилась на кухню. Забытый на плите чайник выкипел и начал прогорать, распространяя гнусный запах каленого металла.
«Ох, вот не хватало еще и дом спалить!»
Ополаскивая содой пригоревший чайник, Маша соображала: а насколько весомы наглые претензии вдруг ставшего заклятым врагом Голованова? Имеет он право выгнать Машу с родительской усадьбы? Земля его – а дом, дом-то? Или что он там говорил – забирайте, увозите?
«Да нет, – уговаривала себя Маша, стоя над закипавшим чайником. – Не может он меня прогнать! Не может! На моей стороне закон, на моей!»
Но что-то внутри гаденько зудело ей: как же так может быть, она землю продала, а дом, что на этой земле стоит, вроде и не продавала? Не вяжется это как-то…
«Ох, не то что-то ты, Маша, сделала, ох не то!» – кололо в висок тоненьким шилом.
А Маша все не хотела – да не могла просто! – поверить, что она уже не хозяйка на своей земле, в своем доме и, кажется, даже в своей жизни.
На следующее утро Маша, едва проснувшись, выглянула в окошко: а что там делается у соседей? На образовавшемся пустыре было голо и безлюдно, и это несколько обнадежило Машу. А может, этот Голованов позабудет о ней, удовольствуется уже имеющимся наделом, оставит ее в покое? Надо только возможно дольше оттягивать решительный разговор… Или, купив, по выселковскому обычаю, бутылочку, сесть, поговорить с ним душевно, объяснить по-хорошему, зачем ей понадобились эти громадные деньги. Чтоб выручить родненького сынулечку! Оторвать от него бабу-злыдню! Вон сам-то он, поди, не больно счастлив со своей тощобой, а? Поймет… Поймет! Он хороший человек.
Голованов появился через неделю и вошел в кухню уже с недовольным, будто скрученным в фитиль лицом.